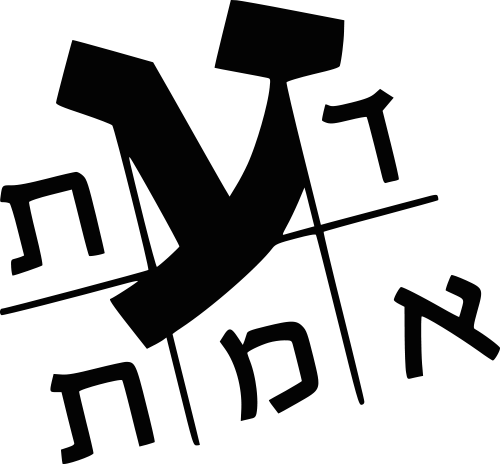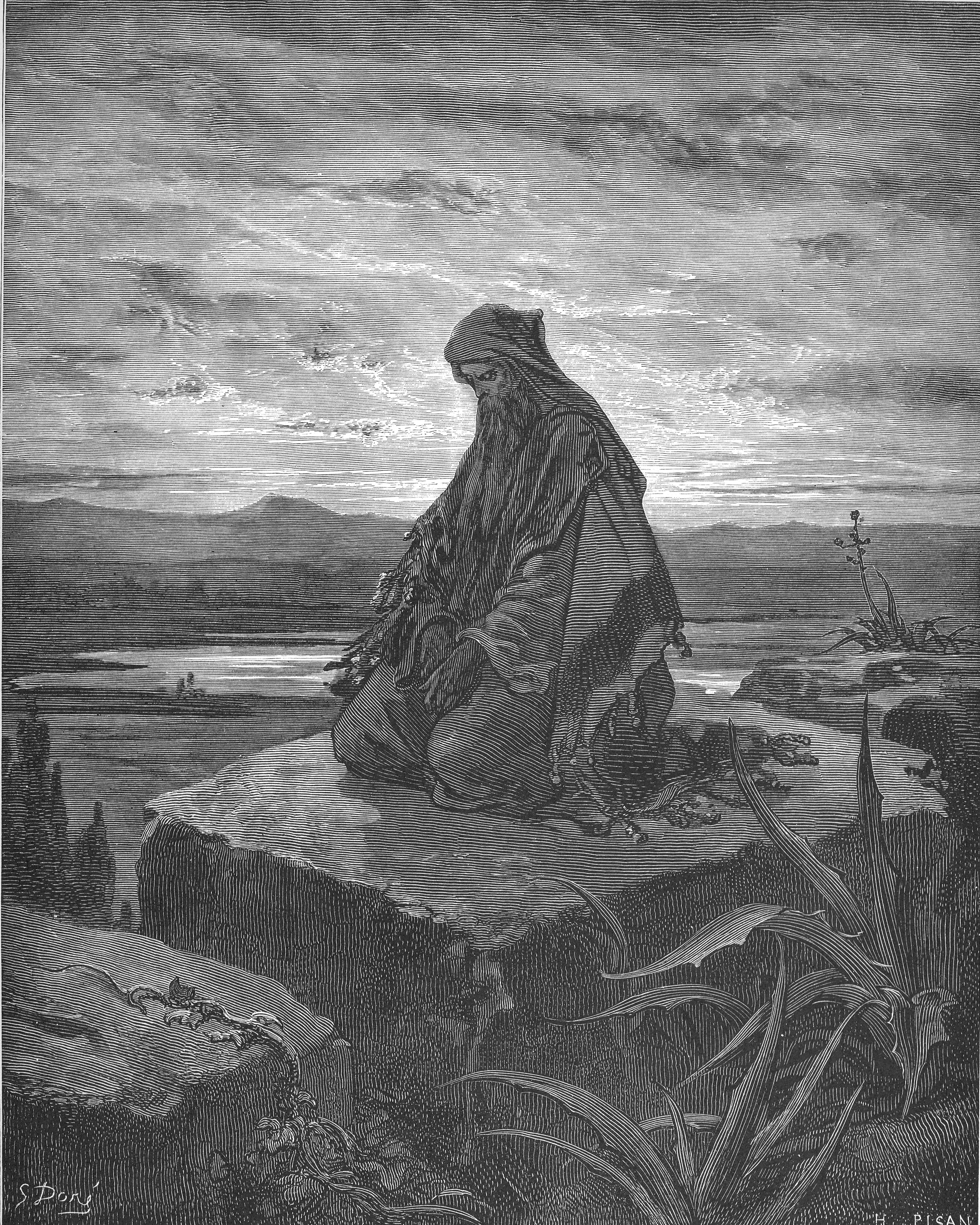
— версия для печати
Рав Йеhуда сказал от имени Рава: Однако, помянем добром одного хорошего человека. Звали его Ханания, сын Хизкии. Если бы не он, книгу Иехезкеля предали бы забвению, ибо то, что в ней говорилось, противоречило словам Торы. Что же сделал Ханания, сын Хизкии? Ему принесли три сотни мер масла (для светильников), а он сидел на чердаке и устранял противоречия
Трактат Шаббат, 13б
Мы расскажем здесь о серьёзных противоречиях между книгой пророка Иехезкеля и сказанным в Торе. Особенно важным нам представляется тот странный и непоследовательный способ, которым пользуются мудрецы для объяснения этих противоречий (один Бог знает, что там накопал Ханания, сын Хизкии, как пишет Радак в комментарии к Иехезкель, 45:20: …«и мудрецы сказали, что надо помянуть добром Хананию, сына Хизкии, сына Гарона, не будь которого, книгу Иехезкеля предали бы забвению… а толкования этого Ханании до нас не дошли»). Мы уже писали в выпуске №8, что книги, вошедшие в Святое Писание, были определены мудрецами. Следовательно, они и должны, по идее, объяснять разночтения, существующие между этими книгами. Их объяснения при этом до того странны и запутаны, что мы так и не поняли, для чего Ханании, сыну Хизкии, понадобились три сотни мер масла. При использовании метода, избранного мудрецами, все сложности и противоречия разглаживаются, словно послушные мановению чьей-то руки. На такое Ханании, сыну Хизкии, хватило бы одного-единственного маленького светильничка – в чём и вы, наш верный читатель, скоро убедитесь сами.
Вот некоторые из противоречий между книгой Иехезкеля и Торой:
- Пророк Иехезкель посвятил целую главу, и даже больше, вопросу о наказании, которому подвергнется сам грешник. Он говорит: «Душа согрешающая – она умрёт» (Иехезкель, 18:4). Более того, в стихе 20 сказано: «Душа согрешающая, она умрёт: сын не понесёт вины отца, а отец не понесёт вины сына» (см. также гл. 33). А ведь в Торе прямо сказано, что Господь «карает детей за вину отцов» (Исход, 20:5).
Вот как мудрецы объясняют это противоречие в трактате Макот, 24а: «Моисей сказал: Карает детей за вину отцов. Потом появился Иехезкель и отменил это: Душа согрешающая – она умрёт».
Диво дивное. Вот уж, действительно, замечательный ответ. Простое и ясное объяснение: Моисей записал что-то, сказанное Господом, потом появился Иехезкель и отменил это. Неужели на этот ответ понадобилось триста мер масла?
К слову сказать, это противоречие можно найти в самой Торе. Во Второзаконие, 24:16, написано: «Да не будут наказываемы смертью отцы за детей, и дети да не будут наказываемы смертью за отцов; каждый муж за свой грех должен быть наказываем смертью». Гемара объясняет в трактате Санhедрин, 27б, что «‘Карает детей за вину отцов’ – в том случае, если они продолжают дело отцов». То есть, детей наказывают (за «вину отцов»?), если они продолжают грешить. Ибн Эзра долго и пространно разъясняет эти противоречия и старается примирить стихи друг с другом в комментарии к Исход, 20:5.
Итак, несмотря на сказанное в книге Иехезкеля и во Второзаконии, мудрецы утверждают, что дети могут быть наказаны за грехи отцов. В трактате Шаббат, 32б, говорится: «За грех невыполнения обета дети умирают, когда они ещё маленькие». Вот что пишет Радак в комментарии к Иехезкель, 18:6: «А то, что сказано, что сыновья не отвечают за грехи отцов – это о взрослых детях, которые могут сами отвечать за свои поступки; а маленькие дети могут быть наказаны смертью за грехи отцов». То же написал и Раши к Второзаконие, 24:16: «‘Каждый муж за свой грех должен быть наказываем смертью’, – но тот, кто ещё не муж, наказуем смертью за грех своего отца: маленьких детей небеса карают смертью за грехи их отцов». Следуя этому толкованию, выходит, что удивлённое: «Отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина»! (Иехезкель, 18:2) относится только к взрослым сыновьям, таким, которым уже стукнуло тринадцать. Видимо, Господня справедливость предполагает убиение безгрешных младенцев за деяния их родителей. Толкование, откровенно говоря, неприемлемое для человека здравомыслящего.
- «Но они восстали против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг мерзостей, что пред глазами их, и идолов Египта не оставили они. И Я думал излить гнев Мой на них, истощить ярость Мою над ними в земле египетской. Но Я поступил так ради Имени Моего… чтобы вывести их из земли египетской. И Я вывел их из земли египетской, и Я привёл их в пустыню» (Иехезкель, 20:8-10).
А вот в Торе об этом сказано: «И поверил народ. И услышали, что вспомнил Господь о сынах Израиля и увидел страдание их, и преклонились они, и поклонились» (Исход, 4:31). И это говорится на момент, когда евреи находятся в Египте – ещё до казней, обрушившихся на египтян.
Получается, что, согласно пророку Иехезкелю, Господь вывел евреев из Египта несмотря на их закоснелость во грехе, и сделал это лишь во славу собственного Имени; в то время как из Торы следует, что евреи уверовали в Господа. Как же объясняют это наши учителя?
Из Мидраша Танхума (изд. Бубера) к разделу Беhаалотха, гл. 13, можно понять, что пророк Иехезкель говорил о грешной части народа, а Тора – о верующих. Там сказано: «Когда евреи были в Египте, они пренебрегли Торой и заповедью обрезания и все были идолопоклонниками, как показывает Иехезкель… а в конце написано: ‘Но они восстали против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг мерзостей, что пред глазами их, и идолов Египта не оставили они’ (Иехезкель, 20:8). Как же Всевышний поступил? Он наслал на Египет тьму на три дня и за это время убил всех злодеев в народе Израиля».
Радак считает, что это противоречие объясняется так: «Ибо с тех пор, как по велению Господа к ним пришёл Моисей – да почиет он в мире! – они не придерживались долее своих дурных обычаев, ибо сказано: ‘И поверил народ. И услышали, что вспомнил Господь о сынах Израиля’, – и уверовали в Моисея из-за чудес, которые он сотворил у них на глазах» (в комментарии к Иехезкель, 20:9).
Оба ответа выглядят очень странно. В обоих случаях Иехезкель не должен был бы говорить, что Господь вывел евреев из Египта исключительно «во славу Своего Имени». В любом случае, либо евреи раскаялись, как считает Радак, либо злодеи уже умерли во время египетской тьмы, как объясняет Мидраш Танхума: так или иначе, из Египта вышли праведники…
- «И восстал против Меня дом Израиля в пустыне: заповеям Моим не следовали и отвергли законы Мои, данные, чтобы исполнял их человек и был жив ими, и субботы Мои оскверняли чрезвычайно, и Я думал излить на них гнев Мой в пустыне, чтобы истребить их» (Иехезкель, 20:13).
«Субботы Мои оскверняли, и думал Я излить гнев Мой на них, истощить ярость Мою над ними в пустыне» (Иехезкель, 20:21).
То есть, именно в том, что народ нарушал субботу, и кроется причина желания Господа излить на него свой гнев и ярость. Из сказанного в Торе, однако, можно заключить, что Господь хотел излить свою ярость на евреев по разным причинам, главным же образом из-за греха лазутчиков, но никак не оттого, что они не соблюдали законов субботы. В Числа, 14:12, сказано: «Поражу его мором и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Соответственно и в Числа, 14:29: «В пустыне этой падут трупы ваши и все исчисленные ваши из числа вашего, от двадцатилетнего возраста и выше, за то, что роптали вы на Меня».
А вот как раз в главе про манну, где народ вышел собирать её в субботу, ничего не говорится о наказании, предусматривающем поголовное истребление евреев. Сказано только: «И сказал Господь Моисею: доколе будете отказываться соблюдать заповеди Мои и наставления Мои? Смотрите, ведь Господь дал вам субботу, посему Он и даёт в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя, не выходи никто из места своего в день седьмой» (Исход, 16:28-29). Никакого наказания за нарушение суботы – только пятничная компенсация в виде двойной порции манны с небес.
- «И Я также дал им обычаи недобрые и законы, по которым нельзя жить. И Я осквернил их жертвоприношениями их, когда они бросали в жертву всякого первенца, чтобы уничтожить их, для того чтобы узнали, что Я – Господь» (Иехезкель 20:25-26).
Пророк говорит здесь страшную вещь: Всевышний специально дал евреям нехорошие законы, чтобы те не смогли по ним жить. Кроме того, из сказанного можно понять, что во времена Иехезкеля у евреев был обычай бросать первенцев в огонь (как то делали идолопоклонники) – «когда они бросали в жертву всякого первенца» – и что они поступали так по велению Господа.
Что скажут на это наши учителя? Ясное дело – они исказят смысл слов пророка.
В Мидраше Танхума (Варшавское изд.) к разделу Мишпатим, гл. 3, говорится: «‘Ибо уставы народов – суета’ (Иеремия, 10:3), и сказано также:‘И Я также дал им обычаи недобрые и законы, по которым нельзя жить’(Иехезкель 20:25). Зато народу Израиля Я дал хорошие законы и заповеди, и об этом сказано: ‘Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые, человек будет жив ими’ (Левит, 18:5)».
Итак, согласно Мидрашу Танхума, означенный стих относится не к нашему избранному народу, а, напротив, к неевреям. Такой странный способ толкования можно встретить и у мудрецов: «Если что-то неприменимо в отношении к евреям, следует отнести это на счёт неевреев». Откройте, наш терпеливый читатель, книгу пророка Иехезкеля, главу двадцатую, и вы убедитесь, что приведённый стих ну никак не может относиться к кому бы то ни было, кроме народа Израиля. Тут всё просто и ясно – толкование, предложенное Мидрашем, высосано из пальца.
Радак пишет в комментарии к книге Иехезкеля (20:25): «‘И Я также дал им обычаи недобрые’ – так как они пренебрегли Моими законами, Я отдал их в руки их врагов, дабы те дали им законы и обычаи, от которых им будет плохо, в отличие от Моих законов, от которых им было бы хорошо, если бы они их соблюдали; а законы, которые на них распространили их враги – это ежегодные поборы и другие оброки. ‘Законы, по которым нельзя жить’ – их враги устроят свои законы таким образом, что они не смогут по ним жить – и будут умирать. А если бы они выполняли Мои законы, они жили бы, ибо сказано: ‘Исполняя которые, человек будет жив ими’».
Радак, как мы видим, даёт очень похожее объяснение, но только вместо того, чтобы заменить получателя нехороших законов (вместо евреев – неевреи, как делает Мидраш Танхума), он предлагает другого законодателя – у него эти плохие законы евреям дал, мол, не Господь, а гои. Кругом сплошные странности. Куда ни кинь, всюду клин.
А вот какие противоречия мы обнаруживаем в описании Храма и службы в нём:
Если открыть книгу Иехезкеля на любом месте, начиная с сороковой главы, сразу станет ясно, что указанные там размеры Храма ни в коей мере не соответствуют как размерам первого Храма, так и размерам второго. (В главе Терума мы рассказали о том, почему, согласно нашим учителям, в первом Храме не соблюдались размеры Ковчега Завета и его сосудов, во втором – размеры первого и его сосудов, а в третьем будут отличаться от размеров второго. В результате всё, что Тора говорит на протяжении шести глав о работах и службах в Ковчеге Завета, а потом отводит ещё шесть глав на повторение сказанного – всё это отправилось коту под хвост, поскольку, как оказалось, никакой hалахи, остающейся в силе на все времена, там нет.)
А как всё это объясняют учителя? Очень даже просто. Сложный вопрос? Не знаешь, как выпутаться? Говори сразу: «Это сказано о будущих временах». Мы уже немало написали о привычке премудрых наших учителей сваливать всё на будущее. В разделе Экев, например, Тора сулит воздаяние тому, кто исполняет заповедь почитать отца и мать. Обещанная награда – «чтобы продлились дни твои… на земле» (Второзаконие, 5:16). Но ведь многие из тех, кто почитает отца и мать, живут совсем недолго?! Мудрецы отвечают на это, что слова «чтобы продлились дни твои» относятся к «одному долгому дню», то есть к жизни в будущем мире (где эти люди ужо получат причитающуюся им награду). А почему же Писание подчёркивает: «на земле»? На это мудрецы ничего не отвечают… То же самое очень часто происходит с пророчествами Иехезкеля, затрагивающими размеры Храма.
Поэтому мы не устаём удивляться Ханании, сыну Хизкии, и трёмстам мерам масла у него на чердаке. Ещё поднимаясь по лестнице, ведущей на чердак, он мог бы разъяснить все противоречия, сказав, что всюду, где Иехезкель противоречит Торе, он говорит о «будущих временах».
В Седер Олам Раба, гл. 26 (изд. Миликовского), сказано следующее: «‘На двадцать пятом году изгнания нашего, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатый год по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господня, и Он привёл меня туда’ (Иехезкель 40:1). В тот самый миг Господь показал Иехезкелю в видении образ будущего Храма».
Чудеса, да и только! Посреди изгнания, в самом его разгаре, на двадцать пятом году изгнания Йехоахина, пророк принимается пророчествовать –более чем за пятьдесят лет до строительства второго Храма, под действием прямого указания: «Возвести всё, что видишь ты, дому Израиля» (Иехезкель 40:4). В частности, он описывает, подробно и обстоятельно, размеры Храма и его сосудов, а также порядок служб. Можно ли найти хоть намёк на то, что всё это не относится к Храму, который будет построен через пятьдесят лет? Боже спаси и помилуй! Совершенно ясно, что пророк предрекает строительство второго Храма и сообщает, каковы должны быть его точные размеры, о чём ему, в свою очередь, поведал святой дух.
Любопытно, что же думали еврейские народные массы, располагая пророчеством Иехезкеля и в то же время своими руками возводя второй Храм по совсем иным эскизам…
И вот что интересно. С одной стороны, пророчество Иехезкеля не соответствует ни первому, ни второму Храму, как пишет Радак (в комментарии к книге Иехезкеля, 40:47): «‘И измерил он двор: длина – сто локтей, и ширина – сто локтей’; Этого не было во втором Храме, ибо внешний двор там был сто тридцать пять локтей в длину на сто десять в ширину – и то же с двором коhенов». С другой стороны, наши учителя вполне делали на основании слов Иехезкеля выводы о строении второго Храма: «В больших вратах было две калитки – одна на севере, другая на юге. Через ту, что на юге, никогда никто не входил; об этом прямо сказано у Иехезкеля (44:2): ‘И сказал мне Господь: ворота эти будут закрыты, не откроются, и ни один человек не войдёт в них, ибо Господь Бог Израиля вошёл в них’» (в трактате Тамид, гл. 3, м. 7).
А вот что пишет Радак (к книге Иехезкеля, 40:5): «Пришедшие из вавилонского изгнания возвели строение, кое в чём подобное тому, что видел Иехезкель в будущем Храме».
Чуть дальше Радак пишет (к 40:13): «Откровенно говоря, эти размеры строения нам не совсем понятны, поскольку они относятся к строению будущего, и на то, как человек понимает их по своему разумению, полагаться нельзя. Мы примем то, что можно найти об этом в письменной традиции – в Мишне трактата Мидот и переводе Йонатана бен Узиэля, что же до прочего – с ним придётся подождать до прихода Илии-пророка. Наши блаженной памяти мудрецы сказали о некоторых моментах этого пророчества: ‘Этот вопрос разъяснит Илия-пророк’. Иными словами, нам эти толкования недоступны».
Вот так, господа присяжные заседатели, мудрецы вертят пророчествами Иехезкеля как своими собственными, хотят – относят их ко второму Храму, хотят – к Храму будущего, хотят – вообще оставляют вопрос открытым, пока, мол, Илия-пророк в конце времён растолкует, что к чему…
Опять же, как мы говорили не раз и не два, мы исполняем сегодня не слова пророка, а волю мудрецов, основанную на их личных соображениях и выводах – см. также выпуск №8 и статью о пророчестве.
Наше отношение к пророчеству Иехезкеля прекрасно подытожил Маймонид в Законах Храма, гл. 1, з. 4: «Храм, построенный Соломоном, подробно описан в книге Царей, а Храм будущего описан в книге Иехезкеля, но там ничего не объясняется, и те, кто строил второй Храм во времена Эзры, построили его по подобию Соломонового Храма и в соответствии с тем, что можно понять из пророчества Иехезкеля».
То есть: второй Храм – это некоторая «помесь» первого Храма с Храмом будущего, описание которого непонятно и толком не объясняется. Но как же быть с пророчеством Иехезкеля, которому было видение Господне? От него отщипнули самую малость, не более.
А вот что пишет Маймонид в Законах о практике жертвоприношений, гл. 2, з. 14: «Все возлияния и их количества, указанные в книге Иехезкеля, счёт жертвоприношений и порядок служб, описанные там – всё это дополнения и приложения, которых не следует придерживаться во все времена. Пророк дал соответствующие распоряжения и объяснил, как именно будут приносить жертвы с освящением алтаря после прихода Мессии, когда будет построен третий Храм». Мы уже писали об этом в главе Тецаве.
Не без труда нам удалось обнаружить, что мудрецы объясняют одно из разночтений между словами Иехезкеля и Торой. В Сифри, Второзаконие, п. 294, приведены слова сына Ханании, сына Хизкии: «Элазар, сын Ханании, сына Хизкии, сына Гарона, сказал: Он (пророк) ведь говорит: ‘Поэйфе (т. е. три сеа) на быка и по эйфе на овна и на агнцев’ (Иехезкель, 46:11) – но разве на быков, овнов и агнцев положено одинаково? Сказано ведь: ‘Три десятых эйфы на быка, две десятых на овна и одну десятую на каждого из семи агнцев’ (Числа, 29:3)?! Отсюда мы видим, что мера эйфы двояка: как малая, так и большая эйфа называется эйфой». Не успел наш толкователь приступить к делу, а уже влип в двоякие меры, которые, как известно, суть «мерзость пред Господом» (Притчи, 20:10)…
А Раши пишет в своём комментарии к книге Иехезкеля, 45:24: «‘И в хлебный дар принесёт по эйфе на каждого быка’ – хлебного подношения. Я не знаю, что такое ‘по эйфе на каждого быка’; Тора ведь говорит о трёх десятых! Видимо, здесь говорится об одной эйфе крупы, из которой можно получить одну десятую сеа муки – ибо в одной эйфе три сеа». Аналогично в комментарии Раши к книге Самуила I, 1:24: «‘Одну эйфу муки’ – мне говорили, ссылаясь на раббейну Ицхака hа-Леви, что одна эйфа муки – это три сеа, из которых можно получить три десятых части муки тонкого помола, необходимые для приношения в жертву быка».
Мы видим, что пророк Иехезкель пользуется очень-очень странной эйфой. В этой «эйфе муки» мука – это крупа, а «эйфа» – одна десятая эйфы. Смех, да и только.
Вот ещё пример из комментариев Раши (Иехезкель 46:4): «‘В день субботний шесть агнцев’ – я не понял, почему так, коль скоро Тора говорит о двух агнцах (Числа, 28:9). Однако под субботним днём может подразумеваться как суббота, так и праздник. Потому я считаю, что это говорится не о субботе, а о празднике, когда нужно приносить в жертву семь агнцев и двух овнов. Этот стих учит нас, что жертвы не являются взаимообязательными, и что если нельзя добыть семь агнцев, приносят шесть, а если не найти двух овнов, приносят одного – как учили мудрецы касательно новомесячных жертвоприношений».
Вот так Раши объясняет стих у Иехезкеля, противоречащий Торе: «суббота» – это праздник, «шесть» – это семь, а уж если семи не нашлось, приноси, что ж поделать, шесть. (А если нет шести? Принести пять?) Конца и края этой ахинее не видно.
Вот какие страсти. Странно, почему комментаторам не пришло в голову заявить просто-напросто, что Иехезкель говорит о размерах хлебного подношения в будущем, как пишет Радак (Иехезкель, 45:22): «О хлебном подношении тоже сказано приносить по эйфе на быка и по эйфе на овна и по hину масла на каждую эйфу. А в Торе говорится про трёх десятых на быка, двух десятых на овна и одной десятой на агнца. Поэтому надо понимать, что сие нововведение относится к жертвоприношениям будущего». Да здравствует наше славное будущее, благодаря которому решаются проблемы настоящего!
Мы не стали приводить все противоречия, затрагивающие вопросы Храма и его сосудов, поскольку таких примеров не счесть. Мы полагаемся на любознательного читателя, который может сам вытащить на свет Божий остальное. Здесь же в наши задачи входило лишь показать методы, которыми пользовались наши учителя для разрешения сложных вопросов – а они не гнушались никакими средствами. То скажут что-то о будущем, то субботу превратят в праздник, то шесть в семь, а эйфу в одну десятую эйфы – и всё это для них в порядке вещей.
Противоречия в законах, касающихся служения коhенов в Храме:
- «И будет: когда войдут они в ворота внутреннего двора, наденут одежды льняные, и не должно быть на них шерстяного во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри дома» (Иехезкель, 44:17).
В Торе, однако, сказано: «И сделай ризу к эйфоду, всю из синеты… при входе его в святилище» (Исход, 28:31,36). Раши объясняет (в комментарии к Исход, 25:4), что синета – это шерсть. То же пишет и Маймонид в Законах о храмовых сосудах, гл. 8, з. 13: «Всюду, где упомянута синета, речь идёт о шерсти».
Вот вам и противоречие. В Торе сказано, что первосвященнику можно – более того, что он обязан – надевать шерстяную плащаницу, а пророк Иехезкель это запрещает. Что же на это говорят наши учителя?
Раши пишет в комментарии к книге Иехезкеля, 44:17: «‘В ворота внутреннего двора’ – в Святая Святых в Судный День; ‘И не должно быть на них шерстяного’ – синету, которая в плащанице и в поясе, нельзя надевать в Судный День для службы в Святая Святых».
Ах, какая прелесть! Раши повсюду объясняет, что внутренний двор – это двор Храма, но едва запахло жареным, он сразу стушевался и обозвал внутренним двором Святая Святых!
Радак, который понимал убожество такого толкования, написал: «‘И будет: когда войдут они в ворота внутреннего двора’ – если понимать слова ‘внутренний двор’ буквально, то есть врата, ведущие ко двору коhенов и к жертвеннику, а оттуда – ко входу в зал, ибо всё это двор, то в таком случае этот запрет шерстяных одеяний относится к будущему, так как в Храме в одеяния коhенов входила шерсть, как сказано в Пятикнижии Моисеевом, ибо синета – это шерсть, окрашенная в синий цвет. Если же допустить, что речь идёт о службе первосвященника в Святая Святых в Судный День, который служил в льняном одеянии, то с чего вдруг Святая Святых названа двором – это же помещение?! Почему сказано: ‘когда войдут они’ во множественном числе, если эту службу осуществлял исключительно первосвященник, который входил туда в гордом одиночестве исключительно в Судный День»?
Очень хорошие вопросы. Жаль, что на них нет ответов. (Кроме, конечно, этого вечного «будущего».)
- «И головы свои пусть не бреют, и волос не отпускают, пусть остригают головы свои» (Иехезкель, 44:20).
Но Тора ничего не говорит о том, что коhенам нельзя стричь волосы. Такой запрет упомянут только в отношении траура по умершему: «Да не делают они плеши на голове своей (по усопшему – Раши) и боков бороды своей да не обривают, и на теле своём да не делают надреза» (Левит, 21:5). То же и касательно отращивания волос на голове во время траура Аарона, Элазара и Итамара: «И сказал Моисей Аарону и Элазару и Итамару, сынам его: волос ваших не отпускайте» (Левит, 10:6).
Получается, что Иехезкель запрещает коhенам стричь волосы, какового запрета в Торе нет; hалаха позволяет стричься даже тем из них, кто служит в Храме – отчего же Иехезкель говорит, что им нельзя стричься?
Раши пишет об этом: «‘И головы свои пусть не бреют’ – не обривают всех своих волос». По-видимому, он подразумевает, что запрет Иехезкеля относится к запрету, упомянутому в Левит, 19:27: «Не стригите краёв волос вокруг головы вашей». Но даже если и принять это странное толкование – хотя этот запрет относится и к прочим евреям в той же мере, что и к коhенам – как тогда Раши объяснит продолжение стиха: «И не порти края бороды твоей»? В трактате Недарим (51а), например, Талмуд объясняет, что стрижке положено быть «такой, чтобы каждый волос заканчивался там, где начинается следующий».
Вот только комментаторы дружно утверждают, что «Не порти края бороды твоей» относится только к первосвященнику, о чём говорят и мудрецы в трактате Недарим: «Так, чтобы каждый волос заканчивался там, где начинается следующий, то есть стрижка первосвященника».
Как всё замечательно сходится. По словам наших учителей, стих Иехезкеля, который противоречит Торе, нужно понимать так: «И головы свои (коhены) пусть не бреют (пусть-таки бреют, но не портят края)… пусть остригают головы свои (здесь уже речь пошла только о первосвященнике, и должно было быть в единственном числе – ‘остригает голову свою’)».
- «Ни вдовы, ни разведённой нельзя им брать себе в жёны, – только девиц из потомков дома Израиля; а вдову, которая осталась вдовой от священника, могут они взять» (Иехезкель, 44:22).
В Торе, при этом, сказано: «Жену блудницу и обесчещенную нельзя им брать, и жену, отверженную мужем своим, нельзя им брать, так как свят он (священник) Богу своему» (Левит, 21:7).
Посмотрите, наш просвещённый читатель, сколько разночтений здесь можно найти в Писании. Иехезкель вообще не упоминает о запрете жениться на блуднице или на обесчещенной, но зато говорит, что коhену нельзя жениться на вдове – запрет, которого в Торе нет.
Мудрецы в трактате Кидушин (78б) говорят на это: «Рав Нахман спросил у Равы: Что, начало стиха: ‘Ни вдовы, ни разведённой нельзя им брать себе в жёны’, относится к первосвященнику, а конец: ‘Вдову, которая осталась вдовой от священника, могут они взять’, – к обычному коhену? Тот сказал: Да. – А разве Писание может посреди стиха заговорить о другом человеке? – Рава сказал: Да. Ибо сказано: ‘И светильник Божий ещё не погас, а Самуил лежал в Храме Господнем, где ковчег Божий’ (Самуил I, 3:3). Однако в Храме дозволено сидеть только царям из дома Давидова! Следовательно, этот стих надо понимать так: Светильник Божий ещё не погас в Храме Господнем, а Самуил лежал – у себя (вне Храма). Таким же образом следует понимать и стих у Иехезкеля: Вначале он говорит о первосвященнике, а затем переходит к обычному коhену. И ещё спросил Рав Нахман у Равы: А в конце стиха, где сказано: ‘Вдову, которая осталась вдовой от священника, могут они взять’, – и это относится к обычному коhену – так ведь и вдову, которая осталась не от священника, ему можно взять в жёны? – На это Рава ответил: ‘От священника могут они взять’ – начиная от простого священника, могут они взять (т. е. только обычные коhены могут жениться на вдовах – даже вдовах не от коhенов)».
Итак, Рава понимает наш стих следующим образом: «Ни вдовы, ни разведённой нельзя им (первосвященнику – должно было быть ‘ему’) брать себе в жёны, – только девиц из потомков дома Израиля; а (непервосвященнику, а именно обычным коhенам) вдову, которая осталась (ему в жёны, может быть не только) вдовой от священника, (но и от любого еврея) могут они взять».
Совершенно потрясающим образом стих в таком толковании меняет своё исконное значение и разворачивается на сто восемьдесят градусов. Недаром Ибн Эзра написал в комментарии к книге Даниила, 1:1: «Как может быть такое, чтобы человек говорил одно, а имел в виду другое? В такое поверит разве сумасшедший… уж лучше бы он сказал: ‘Не знаю’, а не коверкал Слово Божие». А тут Рава утверждает, будто Писание говорит одно, а подразумевает другое – причём прямо противоположное. Лучше бы этим его словам не рождаться на свет.
В который раз мы убеждаемся, что наши учителя не жили Писанием, напротив, это Писание теряет свою форму и смысл с бегом времени, подчиняясь капризам мудрецов, которые его толкуют, как пожелают.
У тех толкователей, которые придерживаются сказанного в тексте, есть свой способ избежать всех этих неприятных моментов. Радак, к примеру, пишет: «‘Ни вдовы’ – если речь идёт о любом коhене, то это относится к будущему». Будущее, как всегда, спасительно донельзя.
- «И после очищения его семь дней следует отсчитать ему» (Иехезкель, 44:26).
Однако в Торе ни сном, ни духом не упомянут отсчёт семи дней после очищения. В Числа, 19:14, сказано просто: «Вот закон: если человек умрёт в шатре, то всякий, кто войдёт в шатёр, и всё, что в шатре, будет нечистым семь дней».
Как же мудрецы справляются с этим противоречием? Трактат Моэд Катан, 15б: «Может ли прокажённый принести жертву? – В Писании сказано: ‘После очищения его’ – после того, как он расстанется с усопшим, ‘семь дней следует отсчитать ему’ – это семь дней отсчёта».
Согласно объяснению мудрецов, этот стих нужно понимать так: «И после очищения его», – после того, как он расстанется с усопшим (Писание называет это очищением, хотя он ещё безусловно нечист?!) ему отсчитывают семь дней для окропления. И каким же образом мудрецы делают на основании этого стиха какие-то выводы о прокажённом? Раши объясняет: «Поскольку Писание говорит об отсчёте, а не об окроплении, из этого можно вывести ещё кое-что – а именно, что если прокажённый излечился, ему надо отсчитать семь чистых дней». Вот только при чём тут прокажённый? Откуда он взялся посреди главы о коhенах?
Тосафот пишут прямым текстом, что стих говорит о двух случаях: о нечистоте обычного коhена и о прокажённом. «Одна тема следует за другой», по словам Тосафот. (Они также задаются вопросом, отчего мудрецы не сказали, что в стихе говорится о первосвященнике, что он должен отсчитать ещё семь чистых дней после семи дней кропления – ведь тогда бы не было и разночтения с Торой, которая говорит только об обычном коhене. Действительно, вопрос нелёгкий.)
Радак, верный себе, написал: «‘После очищения его’ – Возможно, это говорится о будущем, когда святости прибавится, и после очищения в конце семи дней будут отсчитывать ещё семь; но мудрецы не усмотрели здесь нововведения и сказали, что ‘после очищения его’ относится к моменту, когда он расстанется с усопшим». Возможно, это говорится о будущем, а может быть, и нет, но вот достойного ответа никто не даёт.
- «Никакой падали и ничего растерзанного – будь то птица или скот – не должны есть священники» (Иехезкель, 44:31). – Как, только священники? Да ведь всем евреям запрещено есть падаль и растерзанное!
Мудрецы объясняют в трактате Менахот, 45а, что Иехезкелю пришлось написать о священниках, чтобы мы не решили, Боже упаси, что им можно есть падаль и растерзанное – разрешило же им Писание есть голубицу, которой свернули шею, вместо того, чтобы зарезать её в соответствии сhалахой.
Подведём итоги:
Пророк Иехезкель был знаком с первым Храмом, его порядками, службами, законами, касающимися коhенов и Земли Израиля. Когда он уходил в изгнание, Храм ещё стоял, и все положенные обряды проводились в нём как обычно. Будучи в Вавилоне, в период, предшествующий возвращению народа на Святую Землю и строительству второго Храма, пророк Иехезкель записал законы, правила, порядок служб и размеры Храма, основываясь в том числе и на том, что знал и видел. И при этом большая часть его описаний отличается от сказанного в Торе. Как же такое могло произойти? Разве во времена Иехезкеля Тора была не такой, как сегодня? Может быть, пророк решил написать свою собственную Тору? Положение создалось крайне серьёзное. С одной стороны пророк Божий, с другой – Пятикнижие Моисеево. Мудрецы были вынуждены как-то разъяснить противоречия между ними – любой ценой. Поэтому, как видно из всего приведённого выше, учителя пользовались для улаживания разночтений между книгой Иехезкеля и Торой всем, что бы ни подвернулось под руку. Либо пророк «говорит о будущих временах», либо они вырывают слова из контекста и приклеивают куда-нибудь в другое место, а то и попросту насилуют Святое Писание, чтобы придать сказанному нужный смысл.
Для ещё более наглядной иллюстрации мы приведём здесь цитату из трактата Менахот, 45а: «‘Так сказал Господь Бог: В первый день первого месяца возьмёшь молодого быка непорочного и очистишь Храм’ (Иехезкель, 45:18). Как же так?! Ведь молодой бык непорочный – это грехоочистительная жертва, а приносить надо жертву всесожжения!Рабби Йоханан сказал: Этот вопрос разъяснит Илия-пророк. Рав Аши сказал: Во времена Эзры приносили дополнительные жертвы, как то было во временеа Моисея. В барайте мы учили и так: Рабби Йеhуда сказал:Этот вопрос разъяснит Илия-пророк; Рабби Йоси ответил ему: Во времена Эзры приносили дополнительные жертвы, как то было во времена Моисея. Он сказал ему: Да получишь ты ответ на все свои вопросы так же, как ответил на мой! ‘Никакой падали и ничего растерзанного – будь то птица или скот – не должны есть священники’ (Иехезкель, 44:31). Именно священники не должны есть – значит, остальные евреи могут?! Рабби Йоханан сказал: Этот вопрос разъяснит Илия-пророк. Раввина сказал: Нужно было написать о священниках, – иначе мы могли бы решить, что им можно есть падаль и растерзанное, поскольку Писание разрешило им есть курицу, которой свернули шею вместо того, чтобы зарезать её. ‘И так делай в седьмой день нового месяца – за каждого ошибшегося или простака, (вошедшего в Храм нечистым); и искупите Дом’ (Иехезкель, 44:31). ‘В седьмой’ – Рабби Йоханан сказал: Это семь колен, которые согрешили, хотя они и не естьбольшая часть общества. ‘Нового месяца’ – если сделали (неправильное) нововведение, объявив тук кошерным. За каждого ошибшегося или простака – мы учим отсюда, что ответственность лежит на нас не за то, о чём мы забыли, а за то, что нарушили, не желая. Рав Йеhуда сказал от имени Рава: Однако, помянем добром одного хорошего человека. Звали его Ханания, сын Хизкии. Если бы не он, книгу Иехезкеля предали бы забвению, ибо то, что в ней говорилось, противоречило словам Торы. Что же сделал Ханания, сын Хизкии? Ему принесли три сотни мер масла (для светильников), а он сидел на чердаке и разъяснял противоречия».
Вы же, наш любезный читатель, удостойте должного внимания слова рабби Йоханана. Для объяснения одних стихов ему требуется помощь Илии-пророка, в то время как стих: «И так делай в седьмой день нового месяца» он исказил, не задумываясь. Слово «седьмой» он отнёс на счёт семи колен, а «новый месяц» превратил в нововведение Синедриона, который разрешил употреблять в пищу тук. Он крутит и вертит Писанием, делая с ним всё, что хочет. Для честного же исследователя все эти ответы абсолютно ничего не стоят. Потому нас и удивляет, для чего Ханании, сыну Хизкии, понадобилось тащить на чердак триста мер масла, если того же результата может достичь любой дурак, дай ему только волю поступать со словами Писания как ему заблагорасудится – см. ответы мудрецов. Мы показали в этой статье, что эти ответы совершенно неприемлемы и что противоречия всё так же непонятны.
Тех, кто верит, что Иехезкель говорил о третьем Храме, беспокоит вопрос о том, как мы сумеем правильно построить его – ведь пророк объяснил далеко не всё, да и не всё из того, что он объяснил, понятно (согласно толкованиям мудрецов, Иехезкель говорил неразборчиво: то, начав с обычных коhенов, без предупреждения переходил на первосвященника, то внутренний двор у него из двора Храма превращался в Святую Святых, и т. д.). Как пишет Радак к Иехезкель, 40:13: «Откровенно говоря, эти размеры строения нам не совсем понятны, поскольку они относятся к строению будущего, и на то, как человек понимает их по своему разумению, полагаться нельзя. Мы примем то, что можно найти об этом в письменной традиции – в Мишне трактата Мидот и переводе Йонатана бен Узиэля, что же до прочего – с ним придётся подождать до прихода Илии-пророка».
Дорогие приверженцы третьего Храма, не волнуйтесь, пожалуйста. Пусть даже вопрос о том, кто построит Храм, остаётся открытым – Раши считает, что «Храм будущего, которого мы ждём, уже построен и обустроен и будет явлен нам с небес, ибо сказано: ‘Во святилище, Владыка, что устроили руки Твои’ (Исход, 15:17)» (из комментария к трактату Сукка, 41а), в то время как Маймонид пишет в Законах царей, гл. 11, з. 1: «Царь наш Мессия приидет и вернёт царству дома Давидова былое величие для первопрестольного царствия, он отстроит Храм и соберёт народ Израиля, рассеянный по свету». – Будем надеяться, что к тому времени, как Господь спустит для нас Храм с небес, а Мессия построит его на земле, придёт Илия-пророк, помянутый добром, и разрешит все наши проблемы и затруднения, вызванные противоречиями между Пятикнижием Моисеевым и книгой Иехезкеля.