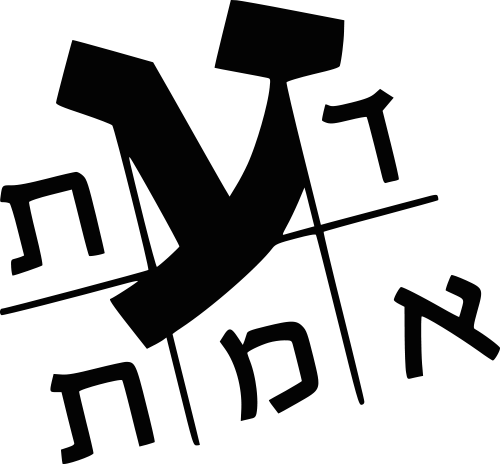— версия для печати
Первая мишна трактата Шаббат перечисляет запрещённые виды вноса и выноса в субботу – одного из тридцати девяти основных видов запрещённой в субботу деятельности: «Если нищий (который стоит снаружи, на общественной территории) протянул руку внутрь (дома, то есть в частное владение) и положил что-то в руку хозяину… этот нищий обязан (принести грехоочистительную жертву)». На стр. 4б Гемара спрашивает: «Но ведь нужно поднять, а затем положить на место размером четыре на четыре, что в настоящем случае не имело места быть?» – т. е. для того, чтобы нарушить запрет вынесения предмета в субботу, его надо положить на какую-то ощутимую поверхность, не меньше четырёх ладоней в ширину. Рука, конечно, таковым не является – она шириной всего лишь в одну ладонь; почему же мишна утверждает, что этот нищий обязан принести грехоочистительную жертву?
Ответ Гемары удивительным образом выворачивает наизнанку слова мишны и делает из её автора идиота, как пишет Ибн Эзра в комментарии к книге Даниила, 1:1: «Как может быть такое, чтобы человек говорил одно, а имел в виду другое? В такое поверит разве сумасшедший… уж лучше бы он сказал: ‘Не знаю’, а не коверкал Слово Божие».
Вот что отвечают амораим (так называют мудрецов Талмуда, живших после периода Мишны, т. е. начиная примерно со второй половины третьего века н. э.) в Шаббат, 5а: «Рабби Абба сказал: Наша мишна имеет в виду, что ему положили в плетёнку (корзину, площадь которой превышает четыре на четыре ладони)… Рабби Абаhу оказался в затруднении. Он спросил: Разве в мишне что-то говорится о плетёнке? Сказано же: ‘в руку’! Посему рабби Абаhу предлагает другое объяснение: Например, он подставил свою руку, опустив её ниже трёх ладоней над землёй, и принял (т. е. близко к земле – и считается, как будто предмет совсем положили на землю). – Но ведь в мишне сказано, что он стоит?! – Имеется в виду, что он стоит, пригнувшись; или же, возможно, речь шла о карлике (человеке, ладонь которого находится ниже 30 см над землёй; в таком случае предмет считается лежащим на земле). Рава сказал: Неужели автор мишны хотел всё это нам поведать? Мне представляется, сказал Рава, что рука человека просто-напросто считается для него как предмет площадью четыре на четыре».
Вот какими толкованиями рабби Абба и рабби Абаhу расписали мишну; в мишне сказано: «положил что-то в руку», а рабби Абба объясняет: «в корзину». Мишна просто говорит: «нищий», а рабби Абаhу уточняет, что речь идёт о карлике, чья ладонь отстоит менее чем на 30 см от земли.
Посудите сами – как объяснили бы эту мишну ваши однокашники? Неужели точно так же? А вы бы не решили, что они, часом, маленько рехнулись?
Ещё пример: Рейш Лакиш считает (см. трактат Бава Кама, 22а), что если человек идёт по улице с верблюдом, груженным льном, и по его невнимательности лён загорелся, подхватив пламя от огня или свечи в одной из лавок, а в результате один из окрестных домов сгорел при пожаре, хозяин верблюда не должен возмещать ущерб хозяину дома. Это связано с тем, что, по мнению Рейш Лакиша, огонь принадлежит не верблюду, а лавочнику, который зажёг свечу (что само по себе очень странно). Гемара приводит в качестве встречного примера мишну из трактата Бава Кама, гл. 6, м. 6: «Если груженный льном верблюд, шествуя в общественном месте, поджёг лён от свечи, стоящей в лавке, и спалил всё здание, хозяин верблюда обязан возместить убытки. Но если лавочник выставил свечу наружу, так это единственно его, лавочника, вина». На это Гемара отвечает: «Впритирку» (т. е. мишна говорит о таком случае, когда верблюд идёт вплотную к стенам и поджигает их, а не о таком, когда огонь, разгоревшись, сам добирается до здания).
Воистину, абсурду нет предела: Гемара спрашивает далее, если речь идёт о верблюде, который слоняется у стен дома и предаёт их огню, почему же его хозяин не должен возмещать убытки в том случае, когда лавочник выставил свечу наружу – ведь ему следовало бы позаботиться о том, чтобы его верблюд со своим горящим льном не поджигал чужого имущества! На это Гемара ответила, что речь идёт о верблюде, остановившемся, чтобы справить малую нужду – а льна, которым его нагрузили, было так много, что от него загорелся весь дом, и огню не пришлось распространяться: «Рав Уна, сын Маноаха, сказал от имени рава Ики: О чём идёт речь? О верблюде, который как раз остановился, чтобы помочиться».
Таким образом, согласно Рейш Лакишу, эту мишну надо понимать так: Если груженный льном верблюд, шествуя в общественном месте, поджёг лён от свечи, стоящей в лавке, и спалил всё здание (т. е. переходил с места на место, поджигая стены, а не так, чтобы огонь распространился сам по себе), хозяин верблюда обязан возместить убытки. Но если лавочник выставил свечу наружу, так это единственно его, лавочника, вина (но только в том случае, когда верблюд был нагружен очень большим тюком льна и остановился, чтобы справить малую нужду).
Вот ещё пример толкований мудрецов Гемары. В Торе сказано: «Если потравит кто поле или виноградник, пустив скот свой травить поле чужое, то лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего пусть заплатит» (Исход, 22:4).
Писание ясно говорит, что хозяин овец, пожравших чужой урожай, обязан возместить причинённый убыток. В Мишне этот закон тоже выглядит ясно и просто (Бава Кама, гл. 2, м. 2): «Что такое ущерб, причинённый поеданием? От каждого ожидается поедание того, что ему подходит; от скота ожидается поедание овощей и фруктов». И в 3-й мишне: «Если собака схватила обгарок (обгоревший хлеб, всё ещё пригодный для употребления в пищу) и отнесла к риге, где съела обгарок, а ригу спалила дотла – хозяин собаки должен полностью возместить причинённый убыток». Из мишны следует, да и по логике вещей кажется очевидным, что если собака забрала обгарок с участка потерпевшего и отправилась с ним куда-нибудь ещё – например, в общественное место, то и в этом случае её хозяин будет обязан компенсировать убытки. Но у наших мудрецов Гемары очень странный, своеобразный подход. Они заявили, что хозяин собаки ничего не должен, если та съела обгарок в общественном месте. В трактате Бава Кама, 23а, сказано: «Где она (собака) его съела? Если она съела его у какой-то риги, принадлежащей кому-то другому, то это не называется ‘травить поле чужое’».
Соответственно постановил и Шулхан Арух в Хошен Мишпат, гл. 391, п. 7: «Убыток, причинённый при поедании, хозяин животного не должен оплачивать полностью, кроме как если животное ело на территории того, кому убыток был причинён. В противном же случае, то есть если животное вынесло что-то с его участка и съело на чужой территории либо в общественном месте, хозяин ничего не должен платить, кроме как за то, что оно съело».
Тосафот, которые почувствовали, что что-то здесь не так, написали в комментарии к Бава Кама, 23а: «… отсюда мы выводим, что для того, чтобы хозяин должен был за всё заплатить, животное должно и взять, и съесть на участке потерпевшего. И хотя в этом нет смысла – для чего же надо есть именно там – таково решение Писания». На свете нет более удобного объяснения всякой белиберды, высказанной мудрецами, чем решение Писания. Правда, непонятно, где именно они выкопали такое решение – в стихе, который мы привели выше, на это нет ни единого намёка.
И ведь вот до чего дошло. Поскольку съесть животное должно обязательно на территории потерпевшего, мудрецы Гемары подняли вопрос о том, не является ли таковой полость коровьего рта. В Бава Кама, 23б, сказано: «Спрашивается: полость коровьего рта считается территорией потерпевшего или территорией хозяина (коровы)»? Гемара сказала было, что если полость коровьего рта считать территорией её хозяина, то вообще никогда не может получиться так, что хозяин должен будет платить за то, что она съела; на это, однако, она ответила, что такое может быть, если корова чесала бок о стену («поеданием» в Талмуде считается любой убыток, при нанесении которого животное получает удовольствие – прим. пер.) и испортила фреску на стене: «В какой же ситуации Писание обязывает хозяина животного возместить ущерб, причинённый поеданием? – Рав Мери, сын рава Каhаны, сказал: Если оно, например, чесалось о стену в своё удовольствие или запачкало фрукты в своё удовольствие».
Итак, мудрецы Гемары, толковавшие эту мишну, считают, что стих «Если потравит кто поле или виноградник, пустив скот свой травить поле чужое, то лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего пусть заплатит» говорит не о том случае, когда животное что-то съело, а о том, когда оно запачкало фрукты в своё удовольствие.
Это высказывание мудрецов заставило комментаторов пролить немало чернил, корпя над бумагой в поисках объяснения такой экстравагантности (см. возражение Тосафот в том же комментарии).
Заметим, что это странное толкование мишны нас всегда удивляло. Можно ещё понять, для чего мудрецам понадобилось насиловать слова Писания в поисках разумного объяснения таких изречений, как, например, «око за око» или «отсеки руку её», где мудрецы объяснили, что имеется в виду денежное возмещение. Но в данном случае они сами себя высекли аж два раза: исковеркали слова Писания и пришли к совершенно неразумному и ненужному выводу.
Ввиду всего этого нас всегда удивляли комментаторы – как ранние, так и поздние, которые честили на все корки своих современников, учение которых не соответствовало здравому смыслу – и в то же время не смели критиковать мудрецов Талмуда. Вот что пишет в своей книге р. Ицхак бар Шешет Перфет (гл. 271): «Ах, сколько премудрых мужей, искушённых в учении Талмуда, видели мы собственными глазами, из тех, что протаскивают своей казуистикой верблюда сквозь игольное ушко, громоздят вопросы на вопросы над каждой точкой и строят горы ответов возле каждой запятой. К превеликому стыду нашему, они не делают верных выводов относительно hалахи; про то, что можно, они говорят: нельзя, а про то, чего нельзя, говорят: можно».
А вот что пишет наш премудрый учитель, ныне здравствующий рав Овадья Йосеф, в книге Ябиа Омер (часть 1, Орах Хаим, гл. 1): «До чего же прискорбно наблюдать, как многие славные ученики в народе Израиля проводят всё своё время в пустых разговорах, не разбираючи путей, не понимая, соответствуют ли их слова hалахе и здравому смыслу. Жаль их зарытых в землю талантов, которые могли бы быть обращены на познание и оттачивание hалахи и рассмотрение действительно актуальных проблем. Вместо этого они отдают все свои силы пустомельству, дающему лишь острое ощущение – увы, преходящее. О них в полной мере можно сказать, что они отказываются от огня вечной жизни – всё ради того, чтобы оказаться халифами на час».
А ведь сама Гемара подвергала критике мудрецов той эпохи. В трактате Эрувин, 53а, сказано: «Рабби Йоханан сказал: сердца прежних (мудрецов) были как большие врата Храма, сердца более поздних – как малые врата Храма, а наши сердца – как ушко швейной иглы. Прежние – это рабби Акива; поздние – это рабби Элазар бен Шамуа. Иные говорят, что прежние – это рабби Элазар бен Шамуа, а поздние – это рабби Ошайя Бариби. А наши сердца – как ушко швейной иглы; Абайе сказал: В учении мы – как веточка, пытающаяся пройти в щель в стене. Рава сказал: В учении мы – как палец, застрявший в воске. Рав Аши сказал: Мы забываем учение, как палец, ищущий опоры в колодце». Видимо, мудрецы прекрасно знали собственные слабости.
Вот как отзывались во время оно о мудрецах Пумбедиты (город в Вавилоне, который был центром изучения Торы, начиная с середины третьего века н. э. и до 476 г.; см. Ивритскую Энциклопедию, ст.Пумбедита): «Ты, верно, из Пумбедиты, ежели так ловко проводишь верблюда сквозь игольное ушко» – так говорили мудрецу, пришедшему с помощью изощрённой казуистики к неверному выводу (см. трактат Бава Меция, 38б).
Раз уж речь зашла о Пумбедите, скажем пару слов и о духовном мировоззрении её мудрецов. В трактате Эрувин, 43а, говорится: «Семь правил hалахи были представлены раву Хисде в Суре в субботу утром, а днём о них рассказали Раве в Пумбедите. А кто рассказывал об этих правилах? – Илия-пророк. А как же Илия-пророк пошёл из Суры в Пумбедиту в субботу? – Видимо, в субботу нет запрета перемещения на большие расстояния?! – Нет, просто их пересказывал не Илия-пророк, а бес Иосиф, которому соблюдать субботу не надо» (См. нашу статью о теле Бога, где рассказывается, что мудрецы приписывали Господу антропоморфные свойства – точно так же как здесь их приписывают Илие-пророку).
Из Гемары в трактате Йевамот, 75б, можно понять, что мудрецы Пумбедиты плохо разбирались в естествознании: «У одного человека засорился канал семяизвержения, и семя извергалось через мочеиспускательный канал» (т. е., по мнению мудрецов, это два разных канала, что не соответствует действительности. См. также наши комментарии к разделу Ки Теце).
Мы привели всё это для того, чтобы показать, что и слова мудрецов Талмуда, будь то толкования Мишны и Писания или утверждения научного характера, следует подвергать беспристрастной критике. В третьем выпуске мы уже приводили цитату из сказанного сыном Маймонида: «Знай, ибо положено знать: если кто желает поддержать известное мнение, согласиться с выражающим его и принять его слова, не проверяя, верны они или нет – это порочный подход, запрещённый Торой и непозволительный с точки зрения здравого смысла»…