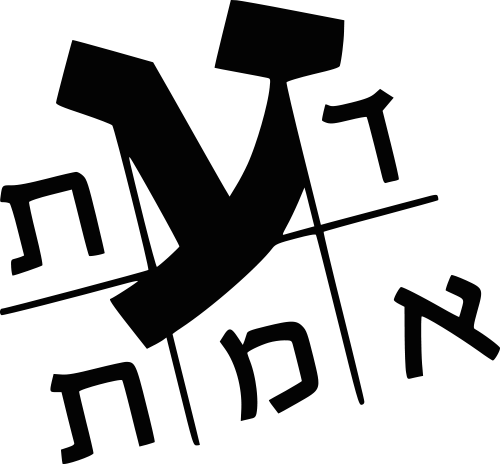— версия для печати
И зарежь овна, и возьми крови его, и возложи на мочку правого уха Аарона и на мочку правого уха сыновей его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их… И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона и на одежды его, и на сыновей его, и на одежды сыновей его с ним; и будут освящены, он и одежды его, и сыновья его, и одежды сыновей его с ним
Исход 29:20-21
В прошлой главе мы рассказали о строительстве Храма и о его сосудах и доказали, что их размеры определяются мудрецами.
Здесь мы расскажем о службах в Храме – жертвоприношениях, которые в те времена были основной формой служения Господу. В эпиграфе мы процитировали стих об освящении Аарона и его сыновей для службы в Храме: «И вот что совершить тебе над ними, чтобы посвятить их на священнослужение Мне» (Исход, 29:1).
В наше время уже распространились другие веяния – люди относятся с содроганием к самой идее окропления человека кровью животных. Это один из самых отвратительных, варварских ритуалов. Благочестивым евреям чужда не только процедура окропления, но и все этапы жертвоприношения. Нам и в голову не придёт забивать и сжигать животных на жертвеннике – мы категорически против этого.
Можно задаться вопросом: «А что же будет с третьим Храмом? Каким образом коhены и левиты будут выполнять там свои обязанности»? Как раз это мы и хотим объяснить – в каждом поколении мудрецы определяют, каким должно быть служение Богу, согласно своим взглядам и убеждениям. Судите сами: Эзра и его современники, построившие Храм, приносили грехоочистительные жертвы, чтобы искупить своё идолопоклонство. А ведь их грех был осознанным, в то время как жертвой грехоочищения, как известно, можно искупить лишь непреднамеренное прегрешение. Гемара в трактате Орайот, 6а, отвечает на этот вопрос: «Но ведь их грехи были преднамерены? – Это было исключительное единовременное постановление». Что может быть лучше, чем «единовременное постановление», если нужно оправдать закон, откровенно противоречащий Писанию?!
Даже число жертвоприношений стало иным. В книге Эзры говорится о том, как «возвратившиеся из плена изгнанники принесли жертвы всесожжения Богу Израиля: двенадцать быков – за весь народ Израиля, девяносто шесть баранов, семьдесят семь ягнят, двенадцать козлов для грехоочистительной жертвы – всё во всесожжение Господу» (Эзра, 8:35). Гемара в Орайот, 6а, говорит: «Девяносто шесть баранов и семьдесят семь ягнят – с какой радости? – Это было исключительное единовременное постановление». Вот так единовременное постановление может похерить законы жертвоприношений, данные Торой. В главеВайеце мы уже привели слова Сифри: «Памятник, угодный Господу от отцов, ненавистен Ему от сыновей». Одно поколение приходит на смену другому, hалаха приходит и hалаха уходит, а выбор способа служения Господу остаётся на усмотрение иудейского общества. Оно само решит, как оно это делает; на мудрецов можно положиться: уж они-то дадут своё согласие.
Например, во времена Писания нам было велено прощать все долги с наступлением каждого седьмого года (шемиты): «Шемита же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который даст в долг ближнему своему, простил и не взыскивал с ближнего своего и с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа» (Второзаконие, 15:2). Завет прощать долги был столь серьёзен, что Тора предупреждает: «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём злого умысла, чтобы думать: ‘приближается седьмой год, год прощения’, и озлится око твоё на нищего брата твоего, и ты не дашь ему; он же возопиет на тебя Господу, и будет на тебе грех», и Всевышний даже обещает: «Ибо за то благословит тебя Господь» (Второзаконие, 15:9-10). Но вот что произошло в эпоху второго Храма, когда верующие люди больше не верили в благословение Божие и перестали давать в долг. В результате бедняки оказались в тяжёлом положении, не в состоянии занять денег у кого бы то ни было. Так и продолжалось, пока старец Гиллель не узаконил прозбол – документ, где факт ссуды закреплён юридически таким образом, чтобы долг можно было взыскать и по прошествии седьмого года. В трактате Гитин, 36а, об этом рассказывается: «Это одно из постановлений старого Гиллеля, который увидел, что люди не одалживают друг друга деньгами и нарушают завет Торы: ‘Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём злого умысла’… он взял и узаконил прозбол».
Рава же утверждает, что поскольку мудрецы наделены правом лишать людей имущества, они вправе также упразднить имущественную заповедь Торы на основании уложения об «изъятии в судебном порядке» (см. Гитин, 36а).
Вот так развивались события: если в эпоху второго Храма нужно было ещё действительно составлять прозбол, то во времена Гемары даже тот, кто не составлял его, мог потом взыскать долг. В Гитин, 37б, об этом рассказывается: «Рав Нахман сказал: Если некто утверждает, что у него был прозбол, но потерялся, его слова принимают на веру», – и даже если кредитор этого не утверждает, судьи подучивали его, что и как надо говорить. Так, Рав в одном подобном случае обратился к заимодавцу с вопросом: «У тебя ведь был прозбол, но ты потерял его, верно»? (По принципу ‘Открывай уста твои за немого’.) Во времена ранних комментаторов прозбол уже вообще не составляли, как пишет р. Шломо бен Авраам Адерет в Ответах, ч. 4, гл. 23: «Даже там, где не принято составлять прозбол, где вместо этого в долговой расписке добавляют как условие, что шемита не списывает долга со счетов, судьи точно так же говорят кредитору – Верно, ты поставил такое условие, но не записал его в векселе?». Очевидно, что судьи не списывают долгов, даже когда им ясно, что в рассматриваемом случае не было ни прозбола, ни условия. Вот мы и говорим, что с изменением общественных настроений, едва люди стали отказывать друг другу в безвозмездном займе, запрет Торы тут же отменили, хотя на этот счёт есть предупреждения, каких не сыщешь по поводу многих других заповедей. Мы видим, что общество – иначе говоря, общественные настроения – определяют hалаху.
Ещё один хороший пример: многожёнство. Тора разрешила полигамию, но затем появился рабейну Гершом, запретивший её до конца пятого тысячелетия. Пятое тысячелетие истекло. Однако сегодня ни одному богобоязненному еврею, где бы он ни жил, и в голову не приходит взять себе двух жён (хотя деяния отцов должны вообще-то служить уроком сыновьям, а у наших праотцев – Авраама и Иакова – было по несколько жён) – не оттого, что это запрещено государственными законами, и не из-за запрета рабейну Гершома, действие которого уже закончилось, а потому, что общество решило поддерживать исключительно институт моногамного брака.
Вернёмся к храмовым службам и расскажем о тех изменениях, которые произошли с разрушением второго Храма. «Вместо постоянных жертв установили молитвы» (трактат Берахот, 26б), а синагоги и иешивы заменили собой Храм. Мишна Берура пишет в гл. 151, пп. 40: «Непонятно, считать ли галерею синагоги подобной галерее Храма – с одной стороны, она не была освящена божественным присутствием, с другой – поскольку дом учения тоже отчасти храм, то и его галерею, освящённую таким образом, нужно считать подобной храмовой галерее».
А так как люди богобоязненные вовсе не горят желанием забивать весь этот скот, сжигать животных на жертвенниках и кропить кого-то их кровью, становится понятно, отчего мы не отстраиваем Храм, согласно сказанному в Сефер hа-Хинух (раздел Терума): «Заповедано построить Дом Божий… эта заповедь в силе, когда большинство евреев живёт на своей земле, это одна из тех заповедей, которая обязывает не отдельного человека, а всё общество сразу».
Выходит, мы не очень-то и стремимся к строительству Храма, и это само по себе не так уж и плохо. Маймонид даже написал в Законах о практике жертвоприношений, гл. 2, з. 14: «Все размеры возлияний, указанные в книге Иехезкеля, счёт жертвоприношений и порядок служб, описанный там, являются временными дополнениями, которые не остаются навечно. Пророк дал соответствующие распоряжения и объяснил, как именно будут приносить жертвы с освящением алтаря после прихода Мессии, когда будет построен третий Храм».
Эти слова Маймонида вполне в духе того, что сказал рабби Йоханан: что изречения пророка Иехезкеля, как выяснилось, противоречат Торе – см. в трактате Менахот, 45а: «Этот вопрос должен разъяснить Илия-пророк»; Раши объясняет: «Ибо до прихода Илии, без его объяснений, мы не знаем, как его понимать». Мудрецы в трактате Санhедрин, 51б, выразили своё удивление подобными заявлениями: «Что это – закон исключительно для времён Мессии»?
Представляется, что с приходом Мессии, когда мудрость в мире умножится и у нас вновь будет Синедрион, именно он и установит законы, порядок служб, и размеры Храма. Точно так же поступил Соломон с первым Храмом, а Эзра – со вторым. А если так, какой прок устанавливатьhалаху сейчас, если ясно, что она всё равно изменится в дальнейшем?
В подтверждение того, что мудрецы каждого поколения сами устанавливают для нас законы, приведём ещё цитату из Маймонида. В Законах Синедриона, гл. 24, з. 4, Маймонид наделяет мудрецов очень большой властью – например, правом подвергать наказаниям и даже казнить: «Судьи могут подвергнуть телесному наказанию того, кто его не заслужил, и казнить того, кто не заслуживает казни, если охраняют таким образом Слово Торы – при условии, что это не противоречит её законам».
И, как старый Гиллель, создавший институт прозбола с учётом запросов населения, законодатели hалахи придерживаются в своей законодательной деятельности того, что принято в обществе их времени.