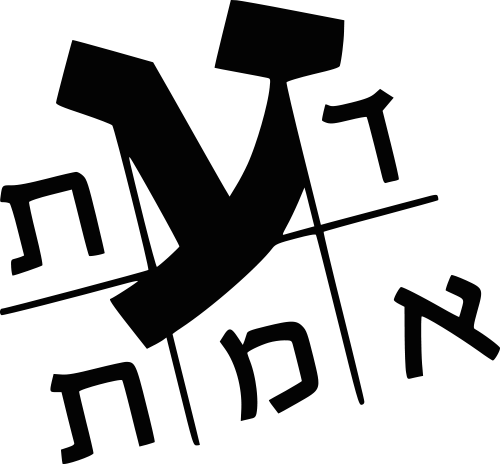— версия для печати
Всё, как Я показываю тебе, образец скинии и образец всех сосудов её, так и сделайте
Исход 25:9
И так делайте во все времена: если один из сосудов потеряется, или когда вы будете делать сосуды для Моего постоянного Храма, как те столы, светильники, умывальники и подставки, которые сделал Соломон, делайте по образцу этих
Раши
Нахманид пишет: «Я никогда не слышал, чтобы царь Соломон действительно обязался сделать сосуды для Храма в точности такими же. Медный жертвенник, во всяком случае, он сделал двадцать на двадцать локтей» (Что разительно отличается от жертвенника Моисея, который был размером пять на пять локтей – см. Исход, 27:1).
И ведь размеры первого Храма и его сосудов отличаются от размеров и сосудов не только Ковчега Завета – указанных Моисею Господом – но и второго Храма. Гемара в трактате Йома, 21б, говорит: «Между первым и вторым Храмом было пять отличий: скиния, крышка скинии, херувимы, вечный огонь, святой дух и божественное присутствие – и Урим ве-Тумим». Да только, как мы сейчас увидим, отличие первого Храма от второго не ограничивается, увы, скинией, крышкой и херувимами. В первом Храме Святая Святых не отделяла от залы завеса – вместо этого между ними была стена; завеса была во втором Храме, как сказано в трактате Йома, 54а: «Разве ж в первом Храме была завеса?». Жертвенник во втором Храме был больше размерами, чем в первом, согласно Мишне в трактате Мидот, гл. 3, м 1: «Когда в Святую Землю вернулись те, кто был в изгнании, они прибавили ему (жертвеннику) ещё четыре локтя с юга и четыре локтя с запада».
В Торе целые главы посвящены размерам Ковчега и его сосудов – и все эти законы отправились на свалку, уже в первом Храме они не соблюдались. Первый же Храм, в свою очередь, ничего не значил для строителей второго Храма, так же как второй никак не повлияет на строительство третьего, размеры, форму и сосуды которого определят мудрецы того времени.
Здесь нужно объяснить кое-что очень важное. Для начала спросим: Как это Соломон взял и отступился от ясных законов, данных Господом Моисею? Этот вопрос приводит Радак в комментарии к книге Царей I, 8:6: «Нам нечего задаваться вопросом, почему Соломон сделал херувимов по-другому, иначе, чем выглядели первые, подобно тому как не надо спрашивать, почему он сделал другой ковчег, другие жертвенники, лампады, столы и сосуды. Ибо всё это он сделал согласно пророчеству, сообщённому ему его отцом Давидом, в соответствии со сказанным в Хрониках I, 28:19: ‘Ибо сказал ему Давид: Всё это сказано в писании от Господа, который вразумил меня о всех работах предначертанных’».
Так пишет и Раши в комментарии к трактату Сукка, 51б: «‘Всё это сказано в писании от Господа, который вразумил меня о всех работах предначертанных’ – Господь сообщил ему всё это через Гада-ясновидца и пророка Натана». То же мы находим и у Ридбаза, ч. 6, п. 2289: «Надо иметь в виду, что всё, что сделал Соломон, он сделал в соответствии с пророчеством, переданным ему его отцом Давидом – мир с ними обоими!.. как мы видим, он сделал другие жертвенники, лампады, столы и сосуды, и т. д.». Мы поражены словами великих людей, которые противоречат основам иудейской веры, как пишет Маймонид в предисловии к комментарию к Мишне: «Мы также предупреждены, что к словам Торы ничего нельзя добавлять или убавлять, ибо сказано: ‘Не прибавляй к тому и не убавляй от того’ (Второзаконие, 13:1), и поэтому говорится, что пророк не вправе сообщить что-то новое». Но если так, как же мог Соломон послушаться Гада-ясновидца и пророка Натана?
Этот вопрос задаёт в своей книге Хатам Софер, ч. 2, гл. 236: «Представляются странными определённые отличия сосудов и строения Храма от Ковчега и жертвенника Моисеевых. Во втором Храме также были отличия от первого, а в Храме, строительство которого предрёк пророк Иехезкель – от всех вышеупомянутых. И хотя написано, что всё это сказано в писании от Господа через пророка, пророк всё равно ведь не вправе сообщить что-то новое, кроме как временно – но не навеки же!». Хатам Софер объясняет далее, что Всевышний изначально дозволил любому пророку определять размеры Храма и его сосудов.
Мы развернём эту тему и скажем: из истории строительства второго Храма вытекает, что таким правом были наделены не только пророки, но и мудрецы (а может быть, только мудрецы), которые могут отменять сказанное в Писании. В главе Мишпатим мы уже писали о том, какhалаха, выведенная на основании умозаключений мудрецов, противоречит Писанию – см. Мы докажем, что это касается и строительства Храма. Гемара говорит в трактате Санhедрин, 16б, где она объясняет мишну: «Город и храмовые помещения можно расширять исключительно по указанию Семидесяти и Одного» (т. е. ни одно святое место в Иерусалиме нельзя объявить ещё более святым без распоряжения на то Синедриона). «Из чего это следует? – Спрашивает гемара. – Рав Шими бар Хийя сказал: Писание говорит: ‘Всё, как Я показываю тебе, образец скинии’ (Исход, 25:9), – так пусть делают и грядущие поколения». Раши объясняет: «Как о скинии было сообщено через Моисея, который замещал собою Великий Синедрион, так и в грядущих поколениях это прерогатива Великого Синедриона». Вот, пожалуйста: ясно сказано, что статус Синедриона, то есть мудрецов каждого поколения, такой же, как у Моисея, и они имеют право добавлять и убавлять святость Иерусалима и Храма.
Сходно с этим говорится в трактате Сукка, 51б: «Прежде женщины были внутри (в женском отделении Храма), а мужчины снаружи (на площади Храмовой горы и на валу), но это привело к распущенности населения. Тогда было постановлено, что женщины будут наверху, а мужчины внизу. Как же так? Сказано ведь: ‘Всё это сказано в писании от Господа, который вразумил меня?’ (Хроники I, 28:19) – Рав сказал: Они нашли соответствующий стих в Писании и истолковали его таким образом»…
Очевидно, что на основании своих логических построений и выводов мудрецы меняют установленное ранее. Так объясняет и Гемара в трактате Зевахим, где спрашивается, как возвращенцы из Вавилона могли изменить размеры жертвенника: «Рав Йосеф сказал: Они нашли соответствующий стих в Писании и истолковали его таким образом». Раши объясняет: «Соломон не понял, как толкуется этот стих, но они растолковали ему и прибавили то, что им было нужно».
Раз уж мы затронули вопрос о прибавленном возвращенцами из Вавилона, отметим в скобках, что первый ответ рава Йосефа на вопрос о том, почему они увеличили жертвенник в размерах, звучал так: «‘И установили они жертвенник на месте его’ (Эзра, 3:3), – дошли до конца его размеров». Раши объясняет: «Люди Великого Собрания дошли до конца его размеров. Им открылось освящённое место для жертвенника, неизвестное Соломону». Прекрасный предлог, чтобы убавлять и прибавлять всё, что душеньке угодно, на том основании, что «поздним мудрецам открылось нечто, неизвестное ранним». Этот премерзкий обычай уже получил распространение среди благочестивых евреев, особенно среди приверженцев хасидского и каббалистического направлений, которые утверждают, что Аризаль и Рашби принесли в иудаизм нововведения, которым не найти основания в Писаниях, оттого, что это наитие не осеняло никого раньше, и т. п. Но если так, то заповеди «Не прибавляйте и не убавляйте» больше нет – её отменили мудрецы на основании собственных рассуждений и умозаключений. Пророчества и Илия-пророк здесь ни при чём. Не зря говорится, что Тора не на небе.
Вернёмся, однако, к нашим баранам. Соломон не только изменил размеры жертвенника, он ещё и украсил свой трон львами, хотя это запрещается – нельзя ваять и лепить животных. Тосафот задают этот вопрос в комментарии к трактату Йома, 54б: «Поразительно то, что о троне Соломоновом написано: Два льва стояли на подлокотниках, и двенадцать львов стояли там на шести ступеньках по обе стороны (ЦарейI, 10:19-20). Никак не скажешь, что это основывалось на пророчестве… ибо пророк не вправе сообщить что-то новое. Можно ответить, однако, что к данному случаю, поскольку он хотел оградить закон, это не относится… Ибо когда люди приходили свидетельствовать перед троном, львы грозно рычали, как рассказывает Мидраш, и люди боялись лжесвидетельствовать». Вот так Тосафот по своему усмотрению разрешили ваять животных, чтобы оградить закон.
Из всего вышесказанного мы видим, что наш образ жизни определяется не Торой (как у садуккеев), а мудрецами, не словами святых и пророков (как у христиан), а толкованиями, превращающими Тору в мягкий, податливый воск, в то время как комментаторы вытягивают и сжимают её на прокрустовом ложе своих предпочтений.
В заключение процитируем Маймонида, который в предисловии к комментарию к Мишне вкратце объясняет то, что мы не устаём повторять: «И будет доверяться и тебе всегда – то есть Моисею, который сказал нам от Имени Господа, что у Творца не будет никакой другой Торы, кроме этой. Об этом и говорится: ‘Она не на небе’, а также: ‘В устах твоих оно и в сердце твоём, чтобы исполнять его’; ‘В устах’ – это устная Тора, а ‘В сердце’ – это рассуждения и выводы, достигнутые путём исследования – одной из сил, таящихся в сердце».
Эти чудесные слова учат нас: то, что Торе никогда не будет замены, означает, что замены не будет, но она претерпит изменения благодаря рассуждениям и умозаключениям мудрецов, а также сил, таящихся в сердце. И это не какая-нибудь подменённая Тора, а та самая, которую даровал Господь, чтобы она превратилась в податливый воск, принимающий и сбрасывающий любые формы соответственно толкованиям, выводам и силам, таящимся в сердце мудрецов каждого поколения. Это достойно понимания, ибо в этом корень всякой веры.