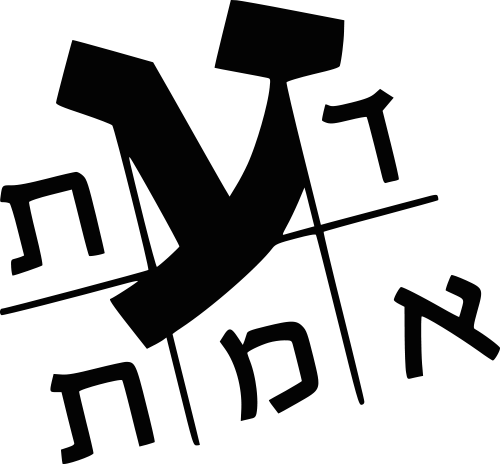— версия для печати
Тот, кто читал в Торе, когда подошло время молитвы Шема, выполнил свою обязанность, если устремил к тому свое сердце
(Брахот, 13а)
Мы покажем здесь, какими странными рассуждениями пользовались мудрецы в своих дидактических изысканиях. Но прежде приведем слова Рамхаля в Даркей Твунот, который, по-видимому, согласен с нашими взглядами: «Мы должны знать, что все эти рассуждения (в Гемаре) построены на основных принципах, заложенных в природу нашего разума, в соответствии с которыми мы воспринимаем и оцениваем мнения. На этих принципах основаны все вопросы и ответы, все доказательства, опровержения и прочие моменты, которые мы подвергаем критической проверке. Так, в Брахот, 15а, мудрецы сказали: “Тот, кто читает (молитвуШема, но не слышит собственного чтения), выполняет таким образом свою обязанность постфактум, но изначально не должен поступать таким образом”. Это основано на представлении, которое возникает у нас из высказывания о том, кто уже прочел молитву».
Вот, например. Ясно, что высказывание «Тот, кто читал в Торе, когда подошло время молитвы Шема, выполнил свою обязанность, если устремил к тому свое сердце» вызывает у нас следующее представление: речь идет о человеке, который читал Тору (то место, где находится текст молитвы Шема, но не делал это с целью выполнить заповедь чтения этой молитвы); с наступлением времени, когда положено читать Шема, ему надлежит преисполниться намерения выполнить своим чтением Торы именно эту заповедь. Вывод: выполнение заповеди должно быть преднамеренным.
Но вот в трактате Рош hа-Шана, 28б, приведено мнение Равы, который считает, что выполнение заповеди не обязано быть преднамеренным – как же Рава объяснит расхождение своих слов с приведенной мишной? Гемара задает этот вопрос в Брахот, 13а: «Следовательно, мы видим отсюда (из мишны), что выполнение заповеди должно быть преднамеренным! (И как же тогда Рава может утверждать, что заповедь можно выполнить непреднамеренно?), – Мудрецы отвечают: Что значит “Если устремил к тому свое сердце”? – Ведь он же читает осознанно? – Видимо, речь идет о читающем ради коррекции». Раши объясняет: «Тот, кто проверяет свиток на предмет ошибок и описок, и даже не имеет в виду читать текст как таковой». Тосафот задали на это вопрос: «Какая разница – он же все равно читает!» – т. е., отмечает значение слов, даже если в его намерения не входит читать молитву Шема. Сказано ведь в Рош hа-Шана, 28а, что, по мнению Равы, можно выполнить заповедь трубить в шофар, трубя из чисто музыкального интереса. В таком случае, если можно без всякого на то намерения выполнить заповедь трубить в шофар, почему нельзя точно так же выполнить заповедь чтения молитвы? Тосафот отвечают: «Видимо, там речь идет о корректоре, который не выговаривает, как полагается, звуки и слова» (и согласно Тосафот, фразу «если устремил к тому свое сердце» следует понимать как «если он следил за правильным произношением написанного»).
А теперь смотрите, до чего можно исказить смысл написанного и извратить суть вещей. В мишне сказано: «Тот, кто читал», а Тосафот говорят – «Вовсе не читал, а так, правил, да и то лишь кусочки слов». В мишне сказано: «если устремил к тому свое сердце», а Тосафот на это говорят – «Совсем необязательно!». Все шиворот-навыворот. А ведь так-то мы и утрачиваем «основные принципы, заложенные в природу нашего разума», как сказал Рамхаль. Более того, когда Мишна хочет сказать «читать сказанное в точности», она так прямо и говорит, и никогда не пользуется эвфемизмами вроде «устремить свое сердце». Вот, к примеру, в Брахот, 15а, сказано: «Тот, кто читал не в точности, не исполнил, по мнению рабби Йоси, заповеди». Для чего же тогда понадобились все эти искажения? Только ради того, чтобы объяснить позицию Равы, который считает, что заповедь можно выполнить, не имея в виду ее исполнения. И вот, вместо того, чтобы сказать, что Рава ошибся, как это происходит в разных других случаях, когда Гемара заканчивает обсуждение, отступаясь от изначальной версии (это, на наш взгляд, один из самых непонятных здесь моментов; иногда мудрецы отвергают мнение кого-нибудь из их числа как противоречащую словам Мишны, а порой они начинают изменять и искажать смысл написанного), простые и доступные слова мишны выворачивают наизнанку.
И ведь вот до чего дошло. В трактате Рош hа-Шана, 28б, Гемара спрашивает, каким образом мнение Равы, что заповедь можно выполнить, не имея в виду ее исполнения, согласуется с мишной (27б), в которой сказано: «Тот, кто живет возле синагоги, или проходит мимо и слышит звук шофара или чтение Мегилы – если он устремил к тому свое сердце, то он выполнил заповедь, а если нет – то нет. Хотя и в том, и в другом случае он слышал, но в одном он устремил к тому свое сердце, а в другом – не устремил к тому свое сердце». В мишне ясно сказано, что слушаниешофара или Мегилы требует намерения выполнить заповедь, вопреки сказанному Равой. Как же Гемара разрешает это явное противоречие? На стр. 28б говорится: «Он думает, что это просто осел», – оказывается, речь идет о человеке, который не знал, что это шофар, и принял его за ослиный рев. Но если он знает, что это шофар, то он выполнил заповедь, даже если не имел этого в виду и слушал просто как музыку. Вот диво дивное! В мишне сказано: «Хотя и в том, и в другом случае он слышал, но в одном он устремил к тому свое сердце, а в другом – не устремил к тому свое сердце», а по мнению Равы, это надо понимать как «Хотя и в том, и в другом случае он слышал, но в одном он устремил к тому свое сердце (и потому знал, что это шофар), а в другом – не устремил к тому свое сердце (и оттого считал, что это осел)». До чего же, должно быть, велика сила устремления сердца, если она способна превратить любого осла в звук шофара! Этому бреду не будет конца. Интересно, как объяснит Рава упомянутое так же в мишне чтение Мегилы? Может быть, и этот слушатель предположит, что слышит ослиное чтение? Может быть, это ослица злого Валаама читает вслух Мегилат Эстер? Очень занятно.
Гаон Арье Лейб, автор Шаагат Арье, уже задал этот вопрос в комментариях к Турей Эвен, трактат Рош hа-Шана, 28-2: «А как же чтение Мегилы… как можно объяснить слова об устремлении сердца – ведь не скажешь же, что он принял голос чтеца за ослиный»? Ответа нет.
Бывает и так, что сами комментаторы, давая постановление, пренебрегают мнением Гемары. Вот, например, гемара в Рош hа-Шана, 28а: «Если человека связали и насильно накормили мацой, он исполнил заповедь есть мацу… Рава сказал: Это значит, что тот, кто трубит в шофар из любви к музыке, исполнил заповедь трубить в шофар. (Это утверждение показалось Гемаре настолько очевидным, что она восклицает) – Ну естественно, это же одно и то же!» (В итоге Гемара объясняет, что между этими примерами можно было усмотреть некоторое различие – см.).
Шульхан Арух говорит в Орах Хаим, гл. 475, п. 4: «Тот, кто ненамеренно ел мацу, например, если его принудили иноверцы или разбойники, он выполнил таким образом заповедь».
Но вот в гл. 589, п. 8, он говорит: «Тот, кто трубит в шофар ради музыки, не намереваясь выполнить заповедь трубить в шофар, не выполнил ее».
Гемара прямым текстом пишет, что закон в случаях с трублением в шофар просто так и поеданием мацы против воли один и тот же, а Шульхан Арух проводит между ними различие.
Если искать внимательно, можно обнаружить много подобных случаев. Это ситуации, в которых мудрецы растягивают, выворачивают наизнанку, искажают и перекраивают сказанное, а комментаторы, устанавливающиеhалаху, временами придерживаются Гемары, а порой игнорируют ее. Мы приведем читателям еще много таких примеров в наших работах о Гемаре.