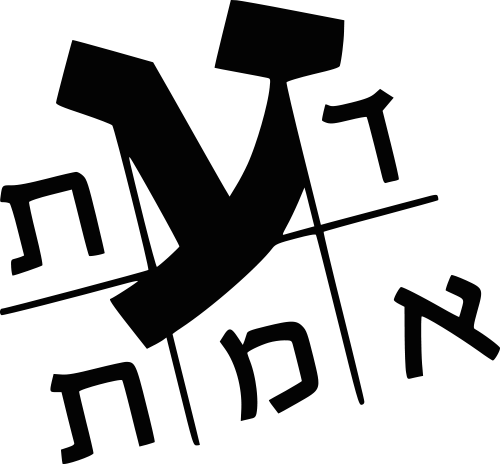— версия для печати
В самом начале трактата Берахот (2а) говорится: «С какого момента приступают к вечерней молитве Шема? – С того часа, когда священники входят в храм, чтобы есть теруму (т. е. с появлением на небе первых звёзд) – и до конца первой стражи (вся ночь делится на три стражи). Так говорит рабби Элиэзер. А мудрецы считают, что до полуночи. Рабан Гамлиэль говорит: до утренней зари».
В рамках настоящего обсуждения мы рассмотрим вопрос о времени суток, уделяя особое внимание астрономическим часам, на которые делится день – тема, играющая немаловажную роль во многих законах, касающихся субботы, будней и праздников, равно как и таких аспектовhалахи, как время обрезания, чтения книги Эстер, подъятия лулава, молитвы, чтения Шема и тому подобного. Мы ясно покажем, как и когда возникли изменения в этих законах. Мы докажем также, что с расширением астрономических познаний мудрецы новых поколений убеждались, что hалаха, установленная мудрецами предшествующих поколений, не выдерживает простейшей проверки действительностью! Им ничего не оставалось, как только взять и изменить установленные прежними мудрецами законы (мы уже писали об этом в выпуске №4 – см.). Мы также покажем, как у наставников hалахи не хватило духу довести дело до конца, и они внесли в hалаху лишь часть необходимых изменений, оставляя прочие висеть, покачиваясь, меж землёй и небом.
Знайте же, о читатель, стремящийся познать истину, что вопросы эти сложны и труднодоступны пониманию, ибо затрагивают небесные тела и расчёты их передвижений. Посему, желающему досконально изучить наш труд стоит обратиться к описанию солнечной системы и движения составляющих её небесных тел. Такое описание можно найти без труда в любой хорошей энциклопедии или учебнике астрономии для начинающих. Оно поможет читателю подготовиться к дальнейшему обсуждению. Начнём с пары слов о гемаре в начале трактата Берахот (2а), которая спрашивает, откуда нам известно, что осквернившиеся прикосновением к нечистому священники могут, очистившись, вкушать теруму только после появления звёзд. Гемара объясняет: «В барайте сказано: ‘Когда зайдёт солнце и он очистится’… ‘Зайдёт солнце’ – то есть всё солнце целиком скроется; ‘И он очистится’ – от дневного света (когда полностью исчезнет дневной свет, т. е. с появлением звёзд). Но, может быть, речь идёт о заходе солнечного света (закате – комментарий Тосафот)? – А что тогда означает ‘И он очистится’? – Человек очистится. Раба бар Шила возразил: Если так, почему сказано ‘И он очистится’? Должно быть ‘И он очистился’! Отсюда мы выводим – очистится от дневного света (т. е. день кончается с появлением звёзд на небе)».
Удивительно, до чего мудрецы искажают простой стих Писания. В Торе (Левит, 22:5-7) сказано: «Человек, который прикоснётся к какому-либо гаду… и нельзя ему есть из святынь, пока не омоет тела своего водой. А когда зайдёт солнце и он очистится, тогда может он есть из святынь, ибо это пища его». Святыни мудрецы превратили зачем-то в теруму (см. подробно в Йевамот, 74б), а слова «и он очистится» отнесли почему-то к солнцу, а не к человеку! (В библейском иврите слово «солнце» – мужского рода. – Прим. пер.) Примеры такого искажения Писания часто встречаются у мудрецов. Нас всегда удивляло, для чего им нужно было толковать Писание таким извращённым образом. Ибн Эзра пишет в комментарии к Левит, 22:7: «Разумеется, ‘И он очистится’ относится к нечистому человеку, подобно стиху ‘И искупит её священник, и она станет чиста’ (Левит, 12:8). В стихе никак не упоминается день, просто мудрецы сделали вывод, что и после захода солнца ему нельзя есть до полного удаления света (до появления звёзд), и воспользовались этим стихом в качестве подкрепления своим словам. Как я уже объяснял по поводу стиха‘Чужому народу’ (Исход, 21:8), так и тут сказано ‘Очистится от дневного света’». А там, в «Кратком Комментарии» к книге Исход, Ибн Эзра написал: «В Торе есть места, о которых известно, что мудрецы использовали их в качестве подкрепления своим толкованиям, зная при этом их подлинное значение… они пользовались толкованием стихов как узелками на память». Это очень странно. Если мудрецы приводят стих как подтверждение своим словам, не считая на самом деле, что это и есть его подлинный смысл, почему же они задают каверзные вопросы, цель которых – опровергнуть это «подкрепление»: «Но, может быть, речь идёт о заходе солнечного света? – А что тогда означает ‘И он очистится’? – Человек очистится». Что за странный вопрос! Ведь, согласно написанному Ибн Эзрой, это действительно так! Из этого вопроса мы видим, что перед нами не попытка найти подкрепление, а самое настоящее искажение Святого Писания.
Прежде чем вернуться к проблемам времени, изложим вкратце то, что мы знаем благодаря астрономам. Астрономические сутки – это время, которое проходит от полудня одного дня до полудня следующего. Поскольку их абсолютная длина постоянно меняется (длина реальных суток может отклоняться вплоть до 30 секунд в любую сторону от среднего значения), было введено понятие средних астрономических суток, длящихся 24 часа. Если разделить эти сутки на день и ночь, то день, в любой момент вращения Земли вокруг своей оси, будет распространяться от точки, где край солнца появляется над горизонтом на востоке, до точки, где край солнца исчезает за горизонтом на западе. Ночь, соответственно, будет там, где солнца не видно. Протяжённость дня и ночи на экваторе равняется приблизительно 12 часам, вне зависимости от времени года. Во всех остальных местах на Земле протяжённость дня и ночи меняется с движением Земли по своей орбите вокруг Солнца (ввиду того, что Земля вращается вокруг своей оси). Зимой у нас дни короткие, летом – длинные, весной и осенью – средние. Однако мудрецы, чьего пристального внимания избежал факт вращения Земли, поскольку они полагали, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг Земли (см. выпуск №4), поделили сутки на день и ночь несколько иначе. На протяжении дня мудрецы выделяют четыре основных момента: рассвет (заря), восход, закат и появление первых звёзд на небе. Опираясь на эти ключевые понятия, они определяли и устанавливали законы, связанные с временем дня, и другие временные термины (полдень, сред пополудни и т. д.).
Согласно всем мнениям, день определяется в hалахе как промежуток времени между рассветом и появлением звёзд. Вот что говорит мишна в трактате Мегила, 20а: «Все они (заповеди, связанные с дневным временем суток) выполняются с момента рассвета». Раши пишет: «Потому что день начинается с рассветом». Далее гемара (20б) спрашивает: «Откуда эти сведения? – Рава сказал, что в Писании сказано:‘И назвал Бог свет днём’ (Бытие, 1:5) – с приходом света (т. е. с рассветом) начинается день; если так, то из продолжения стиха: ‘А тьму назвал ночью’, – надо вывести, что с наступлением темноты (с закатом) начинается ночь – а ведь у нас есть установившаяся традиция, что ночь начинается не раньше появления звёзд?! Поэтому рабби Зейра сказал, что мы знаем это из сказанного: ‘И исполняем мы работу, а половина держит копья от утренней зари до появления звёзд’, – а дальше говорится:‘И да будут у нас ночь для стражи, а день для работы’ (Нехемья, 4:15-16). (Следовательно, ночь начинается с появлением звёзд)». Никто не спорит с этим определением дня в hалахе – от рассвета до появления звёзд. День начинается у мудрецов с рассвета, а рассвет определяется не сам по себе, а через время восхода солнца. Известная гемара в Песахим говорит, что рассвет начинается за время, достаточное для того, чтобы пройти четыре миля (как минимум 72 минуты), до восхода солнца. День завершается появлением звёзд, которое наступает через 72 минуты после захода солнца. Таким образом, средняя протяжённость дня в соответствии с определениями мудрецов равняется приблизительно четырнадцати с половиной часам, в то время как средняя протяжённость ночи равняется девяти с половиной часам.
Теперь, определив понятия дня и ночи в hалахе, мы расскажем о законах, связанных с этими понятиями. В первой мишне трактата Берахот говорится, что вечернюю молитву Шема можно читать с момента появления звёзд и до рассвета (т. к. это и есть ночное время, описываемое в Торе словами «И когда ты ложишься»). О времени чтения утренней молитвы Шема рассказывает мишна, приведённая ниже (Берахот, 9:2): «С момента, когда можно отличить голубой цвет от белого… Рабби Йеhошуа говорит: До трёх часов; ибо таковы привычки царей – вставать (просыпаться) в три часа». Естественно, эти три часа отсчитываются от начала hалахического дня – рассвета, и так пишет Маген Авраам в Орах Хаим (58:1). Он приводит в доказательство гемару в Берахот, 3а, в которую мы позволим себе не углубляться, веря, что пытливый читатель непременно исследует самостоятельно сказанное там.
Но в таком случае мы должны выяснить, что такое час в hалахе. Имеются ли в виду 60 минут, или же речь идёт об астрономическом часе – т. е. об одной двенадцатой протяжённости дня. Например: если 22 июня (самый длинный день в году) между рассветом в 3 часа утра до появления звёзд на небе в 8 часов вечера проходит 17 шестидесятиминутных часов, то, чтобы определить значение астрономического часа, надо разделить 17 на 12 – в результате мы получим 85 минут, то есть в нашем случае астрономический час будет длиннее абсолютного на 25 минут. О каком часе говорили мудрецы? Странным образом, они вообще не позаботились дать какие бы то ни было разъяснения на этот счёт, и поэтому нам трудно судить об этом. Но Маймонид пишет в комментариях к Мишне в трактате Берахот, гл. 1, м. 3: «Знай, что все часы, упоминаемые в Мишне, есть часы астрономические. Суть же астрономических часов в том, что день и ночь делятся на двенадцать равных часов каждый. Поэтому мудрец, который говорит, что молитву Шема можно читать до трёх часов, как будто сказал:‘До истечения четверти дня’, вне зависимости от того, день ли это месяца Тамуз (когда дни длинные) или месяца Тевет (когда дни короткие)». С другой стороны, Пеней Йеhошуа пишет в последнем приложении комментария к трактату Берахот: «Тщательно исследовав Талмуд иhалаху, я нигде не нашёл, чтобы в разговоре о часах имелись в виду астрономические часы. Мы нигде не встречаем этот принцип, кроме комментария Маймонида». То же пишет и Игрот Моше, часть Орах Хаим, 2, гл. 20: «А те, кто хочет спорить с Маймонидом и с автором Шулхан Аруха… которые говорят, что все часы, о которых говорит Гемара – это астрономические часы, – скажут, что это равные часы (60 минут), зимой и летом… Хотя это и повлечёт много сложностей в понимании написанного, даже множество трудностей не заставит нас исказить сказанное нашими учителями – их слова должны оставаться без изменений».
Большинство учителей hалахи приняло позицию Маймонида, иhалахические часы считаются как астрономические.
Маймонид пишет в первой главе Законов о чтении Шема, з. 1: «‘И когда ты встаёшь’ – в тот час, когда у большинства людей принято вставать». Там же, в з. 13, он пишет: «Тот, кто прочёл утреннюю молитву Шема после рассвета… выполнил тем самым свою обязанность (читать утром Шема)… тот, кто прочёл её по истечении трёх часов дня, не выполнил своей обязанности, даже если у него не было никакой возможности прочесть раньше». Очевидно, что три часа отсчитываются от рассвета. Потому что, если бы отсчёт вёлся от какого-нибудь другого момента (например, момента восхода), Маймонид наверняка объяснил бы такую важную и принципиальную вещь. Итак, Маймонид, ранние комментаторы и все авторитеты hалахи полагают, что часы следует считать от рассвета до появления звёзд.
Надо иметь в виду, что все без исключения учителя считали (до Левуша, а потом – Виленского Гаона), что длина часа в hалахе определяется протяжённостью дня от рассвета до появления звёзд, поделённой на двенадцать. Теперь мы расскажем о великих переменах, начавшихся с Левушем (рав Мордехай Яффе, 1530-1612) и закончившихся с Виленским Гаоном (1720-1797). Рав Мордехай Яффе, автор сочинения «Левуш hа-Малхут», раввин и знаток hалахи, посвятил себя также изучению астрономии и философии. Он изменил систему вычисления астрономических часов, принятую до того в hалахе, в соответствии с тем, что прочёл и выучил из книг по астрономии. Вот что он пишет в своей книге «Левуш hа-Малхут», законы молитвы Минха, з. 233: «Мне думается, что здесь подразумевали двенадцать часов с восхода до захода солнца, как то явствует из всех трудов по астрономии». Далее он пишет в гл. 267: «Но я допускаю, что ранние законоучители hалахи, возможно, не занимались астрономией, и потому считали, что день, который мудрецы разделили на двенадцать частей, длится от рассвета до появления звёзд. Мне же, ввиду сказанного по этому поводу Божественными астрономами, такое понимание представляется совершенно неправильным». Перед нами воочию свидетельство большого знатока hалахи, достаточно отважного, чтобы настоять на своём и изменить чётко установленный закон исключительно из-за книг по астрономии, открывших ему, что день и ночь определяются не так, как думали мудрецы, а как раз в соответствии с наблюдениями астрономов-неевреев.
Виленский Гаон также признавал правоту учебников астрономии, как он пишет в гл. 459, пп. 2: «И тогда двенадцать часов среднего дня длятся, по их мнению, от рассвета до появления звёзд. Это большая ошибка, ибо вот что пишут об этом все астрономы: в Нисане и в Тишрей, когда дни средней длины, от восхода до заката проходит 12 часов, а от рассвета до выхода звёзд – 19 часов». Перед Виленским Гаоном стояла ещё одна проблема. Он постановил, что появлением звёзд следует считать момент, наступающий через 17 минут после захода солнца, а рассвет начинается за полтора часа до восхода (о рассвете гемара говорит прямым текстом, что он начинается за время, достаточное для того, чтобы пройти четыремиля, до восхода – согласно Гаону, полтора часа). Получается, что при расчёте астрономических часов от рассвета до появления звёзд середина дня не совпадает с полднем – «временем, когда солнце стоит прямо над головой»! Это противоречит гемаре в трактате Песахим, 94а: «В пять солнце на востоке, а в семь солнце на западе; а с половины шестого до половины седьмого солнце стоит прямо над головой». Два эти соображения заставили Виленского Гаона постановить в Орах Хаим, гл. 459, пп. 2, что длина астрономического часа вычисляется исходя из протяжённости дня от восхода до заката. Он пишет: «Но из написанного мной, что это распространённое заблуждение, будто шесть часов (составляющие ночь) заканчиваются в сутки средней протяжённости с восходом солнца, следует обратное: мы ведём отсчёт от восхода». Мы видим, что согласно Гаону, промежуток времени между рассветом и восходом, хотя и является днём, не входит в счёт дневного времени при определении длины астрономического часа! Удивительно, как это Гаон берёт часть дневного времени (а из hалахи следует, что это – день во всех смыслах) и относит его к ночи. Ни словам Левуша, ни утверждению Виленского Гаона не нашлось реального подтверждения в Талмуде или ранних источниках.
Однако Виленский Гаон хотел, чтобы его мнение было принято людьми богобоязненными. Что же он сделал? Он буквально изнасиловал изречения учителей, чтобы втиснуть их в описание физических реалий и того, что знали астрономы. Тосафот в комментарии к трактату Песахим, 11б, ясно пишут, что астрономические часы отсчитываются от рассвета: «Ибо второй час начинается до восхода солнца». А во что это превращает Гаон? Он пишет: «Тосафот тоже считали, что 12 часов отсчитываются от восхода солнца, но переписчик допустил ошибку в тексте их комментария». Что тут можно добавить? Вот так, за здорово живёшь: ошибка переписчика. Очевидно ведь, что все ранние комментаторы, Тосафот в том числе, считают, что день ещё длится больше часа после захода солнца. Все они наверняка считают, что длина астрономического часа вычисляется исходя из протяжённости дня от рассвета и до появления звёзд. Неужели Гаон не нашёл способа поизящней исказить слова Тосафот, перетягивая их на свою сторону, чем объявить их ошибкой переписчика? Но вот ещё пример того, как Гаон насилует слова комментаторов. Как известно, по системе Виленского Гаона промежуток времени между рассветом и восходом – время прохождения четырёхмилей – равен полутора часам, в соответствии с расчётом Гемары в трактате Песахим, 94а: «Рабби Йеhуда сказал… Сколько средний человек проходит в день? – Десять парса. Между рассветом и восходом – четыремиля, и между закатом и появлением звёзд – ещё четыре миля». Получается, что человек проходит в среднем от восхода до захода солнца 32 миля (десять парса – это сорок милей, из которых нужно вычесть 8милей). Эти 32 миля человек проходит за 12 часов (так как Гаон утверждает, что эти двенадцать часов длятся от восхода до заката). Выходит, что время прохождения 4 милей – это полтора астрономических часа (12 часов, поделённые на 32 миля и умноженные на 4, дают в итоге полтора часа). Таков расчёт Виленского Гаона, и так он объясняет Гемару.
Маймонид, однако, пишет в комментариях к Мишне в трактате Берахот, ч. 1, м. 1: «Рассвет – это заря, освещающая край востока за час и одну пятую астрономического времени перед восходом солнца». Нехитрый арифметический подсчёт показывает, что, согласно Маймониду, человек проходит 40 милей за 12 часов и что часы эти длятся от рассвета до появления звёзд, вопреки теории Виленского Гаона. Вот что пишет Ибн Эзра в комментарии к Исход, 12:6: «Есть два вечера; один – когда вечереет солнце. Он наступает наступает с уходом солнца под землю. Второй – когда исчезают последние отблески его света, видимые в облаках. Разница между ними составляет около часа и одной трети». То же он пишет в комментарии к Бытие, 1:18: «День в Торе длится от восхода солнца до его захода, а ночь – с момента, когда видны звёзды… И знай, что когда солнце затмится, это вечер, ещё час и одна треть, пока виден словно свет в облаках. То же и утром перед восходом солнца». Как же Виленский Гаон объясняет слова Маймонида и Ибн Эзры, чтобы они не противоречили его мнению? В Орах Хаим, 261, он пишет: «Нельзя отрицать, что Маймонид и Ибн Эзра пишут, что продолжительность вечера 20 градусов – то есть час с третью (Маймонид говорит про час и одну пятую), а Гемара утверждает, что он длится полтора часа… Но Маймонид и Ибн Эзра говорят об экваторе, в то время как мудрецы говорили о своей широте». Невероятно. Потрясающе. Виленский Гаон не просто переворачивает вверх дном столпы hалахи, приписывая древним высказывания о местах, о которых те не имели ни малейшего представления, и отбрасывая постановления Маймонида и Ибн Эзры в экваториальные джунгли – в их словах нельзя усмотреть и малейшего намёка на то, что именно это имелось в виду (и уж тем более ни слова об экваторе). Всё это Виленский Гаон натворил с единственной целью защитить собственные взгляды. Всё это отправляется коту под хвост, стоит только вспомнить слова Ибн Эзры в комментарии к Исход (Долгий Комментарий, гл. 12, стих 31), ускользнувшие от внимания Гаона: «Сегодня известно, что Древний Египет… отделяет от Рамсеса расстояние в шесть парса. Они вышли утром – на рассвете, когда лишь забрезжила заря, а между этим моментом и восходом солнца проходит целый час и ещё треть часа». Любой школьник знает, что Египет не расположен на экваторе (даже не близко к экватору), и тем не менее Ибн Эзра пишет о «целом часе и ещё трети часа», опровергая таким образом все хитроумные рассуждения Гаона.
Последний пишет также в 261 главе, что «В северных странах летом рассвет наступает посреди ночи, и, следовательно, звёзды вообще не появляются летом на небе». Отсюда он делает вывод: «Видимо, сумерки наступают с началом захода солнца». Вывод этот совершенно непонятен и никоим образом не решает возникшей проблемы. Есть северные страны, где солнце неделями не скрывается полностью за горизонтом. И в соответствии с подходом Виленского Гаона, там нет всё это время не только появления звёзд, но и рассвета – а следовательно, день вобще не кончается!
В заключение разговора о системе Гаона скажем, что он, конечно, очень хорошо и правильно поступил, когда изменил hалаху, едва ознакомившись с астрономическими фактами; жаль только, что, побоявшись слов «древние ошиблись, и их надо поправить», он надругался над словами учителей и исказил изречения Писания. Если бы ему хватило мужества заявить, что учителя ошиблись, он мог бы изменить определение дня в hалахе и постановить, что день длится с восхода до заката. То есть, мудрецы должны были в трактате Мегила, 20а, вместо: «Все они выполняются с момента рассвета» сказать: «с момента восхода». Однако Гаон не посмел вносить изменение в столь ясное высказывание. Помимо всего прочего, он ещё и понимал, что люди не примут изменения в hалахе, хотя правда на его стороне. Вот так и вышло, что подход Виленского Гаона – это жуткая мешанина, где, с одной стороны, день начинается с рассветом, с другой – отсчёт астрономических часов ведётся от восхода солнца. Нашлись и такие, кто слил мнение Гаона о появлении звёзд с мнением прочих комментаторов. Мы упомянули об этом вскользь в выпуске №4, когда процитировали раввина Тикучинского (из еженедельника Коль Тора): «Через несколько лет, по приезде рабби Ицхака Гольдберга из Минска в Иерусалим… он начал писать мне яростные послания о таком способе подсчёта; он утверждал в своих письмах, что эти неверные вычисления отчасти бросают тень на Имя Божие».
Нам по-прежнему предстоит выяснить, когда же всё-таки начинается рассвет. Мы уже привели мнение мудрецов, согласно которому он начинается за 4 миля (примерно 72-96 минут) до восхода. Только вот Маймонид объясняет, что время это непостоянно и зависит от времени года, как он пишет в комментариях к Мишне, трактат Берахот, 1:1: «Рассвет – это заря… за час и одну пятую астрономического времени перед восходом солнца», – т. е. это время входит в счёт астрономических часов (каждый астрономический час – это одна двенадцатая часть дня). Если день длинный, то рассвет отстоит от восхода дальше, а если день короткий, то рассвет ближе к восходу.
Здесь надо пояснить, что в действительности длительность сумеречного времени (и утром, и вечером) не находится в прямой зависимости от протяжённости дня. Рассветный час и сумерки короче всего в средний день, дольше всего летом, а зимой – короче, чем летом, но дольше, чем весной или осенью (объяснение этому явлению слишком длинно, чтобы приводить его здесь, но его без труда можно найти в учебниках астрономии). То есть было бы неверно утверждать, что зимой, когда дни самые короткие, сумерки тоже самые короткие. Другими словами, продолжительность сумерек зимой нельзя определить как «один час и одну пятую часа» астрономического времени, поскольку они дольше!
Нашим учителям, жившим в древности, простительно не знать таких вещей, особенно если учесть, что они считали, будто солнце ходит кругами вокруг плоской Земли. Удивительно, однако, как мудрецы нового времени, вроде Хафец Хаима, жившего в эпоху, когда всё это было уже прекрасно известно, вместо того, чтобы прибегнуть к помощи астрономов, как то сделали Левуш и Виленский Гаон, делают выводы из священных книг, что в итоге приводит к ошибке. Вот что пишет Хафец Хаим в примечаниях к hалахе, 261: «Даже по системе Раббейну Тама это время четырёх милей – астрономическое, и летом оно длиннее». Не только Хафец Хаим, но и рав Овадья Йосеф, которому стоило всего лишь поднять трубку и позвонить студенту-астроному либо скачать из интернета нужную информацию, не удосужился это сделать и предпочёл всецело положиться на слова мудрецов. В своей книге Ябиа Омер, ч. 2, Орах Хаим, гл. 21, рав Овадья Йосеф написал: «Время прохождения четырёх милей, о котором говорят мудрецы, не абсолютное, а астрономическое, и поэтому летом оно может достигать полутора часов, а то и больше».
Нам известно то, чего они не знают. Говоря языком математическим, отношение протяжённости дня к протяжённости сумерек непостоянно (сумерки короткого дня длятся дольше, чем сумерки среднего дня), и поэтому продолжительность сумерек («время прохождения четырёхмилей») невозможно вычислить, зная лишь длину астрономического часа (например, сказать, что она составляет 1,2 астрономического часа – «час и одна пятая»). Поэтому, тот, кто поступает сообразно Мишне Беруре и раву Овадье Йосефу и читает вечернюю молитву Шема зимой – скажем, 22 декабря, в 5:25 утра, не выполняет таким образом обязанность чтения Шема. Ведь на самом деле «утренние сумерки» (рассвет) в определенииhалахи наступают, когда солнце стоит на 16 градусов ниже горизонта (именно там оно находится за 72 минуты до восхода в средний день на широте Израиля), а 22 декабря это произойдёт в 5:18, в то время как согласно постановлениям Мишны Беруры и рава Овадьи Йосефа рассвет наступает лишь в 5:35, а согласно Виленскому Гаону – и того позже.
Надо иметь в виду, что классический ответ типа «природа вещей изменилась» неприменим к вопросам астрономии и движения небесных тел. Так это было, есть и будет, и нам ничего не остаётся, как признать ошибку Всеправителя.
Очень хорошо сказал об этом раввин Михаэль Шлезингер, статью которого опубликовал журнал «Йешурун», посвященный вопросам иудаизма, в 1923 году, вып. 1-2, стр. 12: «В таком случае, как же может Маймонид утверждать, что рассвет всегда определяется длиной астрономического часа?.. Видимо, во времена Маймонида астрономы тех краёв полагали, что продолжительность сумерек изменяется пропорционально изменениям длины дня – становится слегка короче зимой и длиннее летом». Но сегодня мы знаем, что это не так. То, что пишет раввин Шлезингер, совпадает с нашим мнением, что мудрецы устанавливают hалаху в соответствии с распространёнными в их время представлениями о природе вещей, а не с помощью святого духа. Впервом выпуске мы уже привели слова Маймонида («Наставник растерянных», ч. 3, гл. 14): «Ибо науки познания в их времена были ущербны, и эти вопросы они обсуждали не в соответствии с полученными от пророков сведениями, а в соответствии с тем, что они знали, будучи людьми просвещёнными и учёными для своего времени, либо с тем, что им сообщали учёные люди тех времён».
Приведём ещё один наглядный пример того, как мудрецы высказывают что-то не на основании сказанного пророками, а потому лишь, что так им показалось правильным. Они даже не потрудились проверить, так ли это в действительности. Гемара говорит в трактате Песахим, 93б: «От зари до восхода солнца пять милей. Откуда это известно? – Ибо сказано: ‘Когда взошла заря, ангелы поторопили’… (Бытие, 19:16), а дальше говорится:‘Солнце взошло над землёю, и Лот пришёл в Цоар’ (там же, 19:23). Рабби Ханина сказал: Я сам видел это место, и до него пять милей ходу»…
Подумайте, что за вопрос задаёт Гемара: «Откуда это известно»? Что, у мудрецов нет глаз? Нет бы встать с утра пораньше, выйти во двор да увидеть, когда занимается заря! А ведь так делали во времена Второго Храма, как рассказывается в Мишне в трактате Йома (гл. 3, м. 1): «Старший сказал им: Сходите, посмотрите, не пришло ли время забоя скота». Раши объясняет: «Посмотрите, горит ли восток зарёю новой, ибо ночью скот не забивают». Более того – рабби Ханина утверждает, что ему известно расстояние от Содома до Цоара. Интересно, откуда именно в городе Содоме вышел Лот? И куда именно в Цоар он пришёл? Откуда рабби Ханина отсчитывал пять милей? От границы города Содома? От центра? От главного почтамта? До какой точки он мерил? До границы Цоара? Или, может быть, до центра города? И вообще, по свидетельству Писания, «Когда взошла заря… он замешкался, и мужи те взяли за руку его… и вывели его, и оставили его вне города» (там же, 19:15-16). Откуда мы знаем, не замешкался ли Лот на четверть часа? Или на полчаса? Было же у него время на споры и препирательства с ангелами об участи города Цоар!
Гемара, помимо всего прочего, спрашивает: « Рабби Йеhуда сказал… Между рассветом и восходом – четыре миля… Как же тогда объяснить слова рабби Ханины»? (Который говорит, что от Содома до Цоара пятьмилей. – Раши) Ведь рабби Йеhуда говорит, что это четыре миля. Обратите внимание на ответ Гемары: «В спешке всё иначе» – т. е. расстояние между Содомом и Цоаром действительно составляет пятьмилей, просто Лот и его семья прошли его за время, требуемое обычно для прохождения пути в четыре миля, а рабби Ханина этого не знал (зато знал расстояние между Содомом и Цоаром – двумя городами, о местонахождении которых не сохранилось никакой информации…).