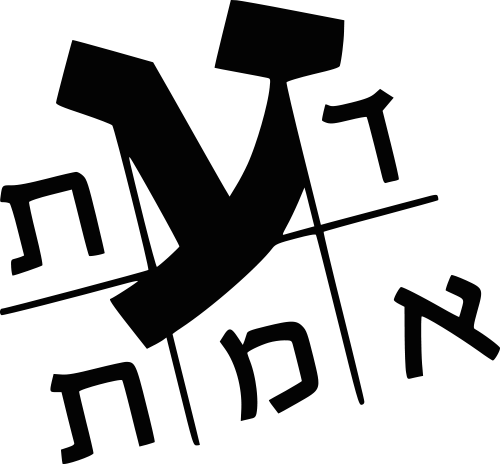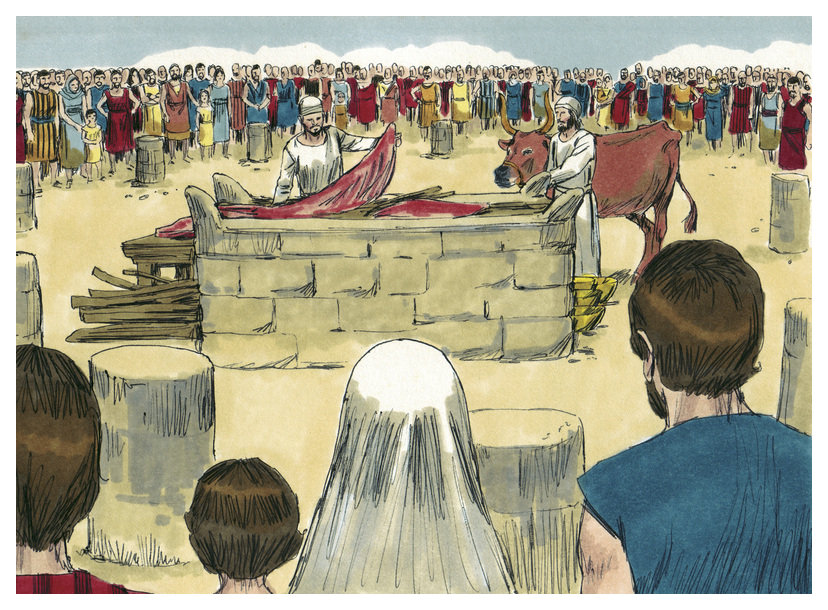
— версия для печати
Если же вся община Израиля согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз общества…
Левит, 4:13
А если согрешит кто-либо из народа земли по ошибке и сделает что-нибудь против одной из заповедей Господних…
Левит, 4:27
Эти две перекрёстные темы (ошибка общины, ошибка отдельного человека) повторяются в книге Числа, 15:22-31.
Как мы уже писали в главе Пекудей (и рекомендуем читателю перечесть изложенный там материал), Тора дважды повторяет шесть глав, где рассказывается о строительстве Скинии Завета и её сосудов. Здесь мы встречаемся с повторением правил, касающихся жертвоприношений. Заглянув в Числа, 15:22-31, читатель убедится, что там эти стихи не к месту – перед этим речь идёт о хале, а после них говорится о запрете собирать дрова в субботу. Совершенно непонятно, с чего это вдруг Моисей не навёл порядок и не сшил эти стихи вместе с прочими свитками жертвоприношений в книге Левит. Это заслуживает серьёзного внимания, ибо и сия тайна велика есть.
А что говорят учителя об этих повторениях? Раши пишет: «‘Если же по ошибке не исполните’, – Писание говорит об идолопоклонстве. Можно было бы представить, что это не так, что речь о нарушении какой бы то ни было заповеди – поэтому Писание подчёркивает: ‘из всех заповедей’: заповедь, которая одна как все остальные заповеди… это запрет идолопоклонства, как мы учим в трактате Орайот, 8а: ‘То, что сказано в этих стихах (Числа, 15:22-31), сказано об идолопоклонстве’».
А в нашем недельном разделе Писание говорит о неисполнении по ошибке прочих заповедей из числа тех, за преднамеренное нарушение которых небеса карают смертью.
Это ещё раз доказывает, что главное в Торе не пишется прямо, и мы должны обращаться к мудрецам за объяснениями. Некоторые комментаторы даже давали объяснения, отличные от того, что говорили мудрецы. Ибн Эзра пишет к Числа, 15:24: «Здесь требуется принести в жертву дополнительного козла (в Левит не упомянут козёл, сказано только о быке), вне зависимости от того, привело ли ошибочное указание (суда) к нарушению запрета или к невыполнению обязательной заповеди». Итак, Ибн Эзра, в отличие от мудрецов, считает, что повторяющиеся стихи не говорят об идолопоклонстве – просто Писание добавляет, что жертву надо приносить и за невыполнение обязательной заповеди; это противоречит ясно и чётко сформулированной hалахе, согласно которой грехоочистительную жертву приносят только за нарушение запрета, за которое небеса карают смертью, если нарушение было преднамеренным.
Нахманид яростно выступил против Ибн Эзры. Он пишет: «Его слова ничего не стоят; если бы это было так на самом деле, жертвы пришлось бы приносить за нарушение всех обязательных заповедей Торы». Но, стремясь не отойти от прямого смысла Писания, Нахманид тоже был вынужден отклониться от толкования мудрецов (согласно которому речь идёт о нарушении по ошибке запрета идолопоклонства). Он пишет: «Чтобы наше объяснение не искажало смысла сказанного в Писании… как и сказано, это жертвоприношение случайного вероотступника, например, того, кто примкнул к другому народу, стал вести себя так же, как они, и вообще не хотел иметь ничего общего с евреями – и всё это по ошибке, например, человек был пленён другими народами в младенчестве, или общество решило, что время Торы уже прошло и что она была дана не навечно… или Тору забудут, как уже случалось с нами за наши прегрешения» (О том, как общество предавало Тору забвению, см.выпуск №9). Удивительно: может, оказывается, быть и такое, что благочестивые евреи дружно решат, en masse, что время Торы уже прошло и что она была дана не навечно. Непонятно, кроме того, как это Нахманид вводит новое жертвоприношение, о котором учителя ни словом не обмолвились (поступая тем самым точно так же, как и Ибн Эзра).
Мы видим, что богоданная Тора, которая должна указывать нам дорогу в нашей жизни, вновь и вновь пускается в пространные повествования о рабах праотцев, строительстве Скинии Завета и других интересных вещах, не имеющих никакого отношения к практике исполнения заповедей – а вот как раз самую суть затрагивает очень поверхностно, не вдаваясь в объяснения. Могло же быть написано, к примеру: «Если же по ошибке нарушите Мою заповедь и будете поклоняться другим богам, о которых Господь сказал Моисею: да не будет у тебя других богов сверх Меня», – и тогда Ибн Эзра и Нахманид не отступились бы от слов мудрецов и не согрешили бы, как «старейшины, перечащие Синедриону» – а ведь оба они прибавили лишнюю жертву к порядку жертвоприношений, установленному мудрецами.
Маймонид пишет в Законах о неумышленных грехах, гл. 12, з. 1: «Все ошибочные прегрешения, за которые положено приносить установленную грехоочистительную жертву, если Синедрион издал неверное постановление… если ошибка, вылившаяся в постановление, привела к идолопоклонству, следует принести в жертву быка… ибо сказано: ‘То, если по недосмотру общины сделалось это по ошибке’ – а традиция донесла до нас, что в этом стихе говорится об акте идолопоклонства, совершённом по ошибке».
Мы объясним здесь, что это за традиция такая. Сперва процитируем гемару из трактата Орайот, 8а: «То, что сказано в этих стихах (Числа, 15:22-31), сказано об идолопоклонстве. Откуда это известно? – Рава сказал – а может, то был рабби Йеhошуа бен Леви… В Писании сказано: ‘Если же по ошибке не исполните какой-либо из всех заповедей’, – Заповедь, которая одна как все остальные заповеди – это запрет идолопоклонства» (Гемара приводит ещё два способа доказательства, один из них она затем отвергает). Маймонид, написавший о «традиции», решил, видимо, что эти толкования Гемары – просто подтверждение чему-то, что и без того было известно. Ведь часто о какой-нибудь заповеди говорится, что она «как все остальные заповеди»: то это заповедь соблюдения субботы, то цицит, то жизнь на Земле Израиля – что же мудрецы прицепились именно к запрету идолопоклонства – а может, Писание говорит о нарушении субботы? Значит, у них «была традиция»!
При этом под «традицией» иногда может подразумеваться закон, полученный Моисеем на горе Синай, иногда – слова пророков, иногда – мудрецов древности; одно понятно: «традиция» всегда передаёт вещи без всяких объяснений, в них может не быть никакой логики. Тосафот пишут в комментарии к трактату Бехорот, 58а: «Рабби Йоханан говорит в гемаре, что это было получено по традиции от пророков Хагая, Захарии и Малахии. Раши объясняет: что было получено через пророчество – подобно hалахе без обоснования, и поэтому здесь неприменимы обычные рассуждения и критика чистого разума, позволяющие определить, что одно важнее другого». (Тосафот справедливо замечают, что Раши не следовало упоминать пророчество, поскольку пророк не вправе сообщить что-либо новое в законах; поэтому Раши должен был написать: «они училиhалахе», и мы уже упоминали об этом неоднократно.)
Теперь мы приведём, с помощью Гемары, бесспорное доказательство того, что мы не можем устанавливать hалаху иначе как в соответствии со словами мудрецов. Даже самый большой знаток Торы, который осмелится возразить их доводам и выводам, может хоть трижды ссылаться на традицию, он всё равно подлежит смертной казни как «старейшина, перечащий Синедриону». В трактате Санhедрин, 88а, об этом сказано: «Рабби Элазар сказал: Даже если он (старейшина, перечащий Синедриону) опирается на традицию, а они (мудрецы) говорят то, что им кажется правильным, его надо казнить, дабы не позволить умножения разногласий в народе Израиля». Итак, чтобы не допустить умножения разногласий в народе Израиля, надо всегда поступать так, как мудрецам кажется правильным, даже если против их мнения выступает большой знаток Торы, который может сослаться на традицию – его вообще надо казнить. Гемаре приходится объяснять, как удалось избежать подобной участи Акавии, сыну Маhалальэля. Тот спорил с мудрецами по четырём вопросам, как рассказывается в трактате Эдуйот, гл. 5, м. 6: «Акавия, сын Маhалальэля, сделал четыре утверждения. Ему сказали: Акавия, возьми свои слова назад – и мы сделаем тебя главой суда над Израилем. Он ответил: Уж лучше я всю жизнь прослыву дурнем, чем один раз позволю себе (сделать) зло перед Господом; никто не скажет, будто я взял свои слова обратно ради высокого поста».
В трактате Санhедрин, 88а, Гемара говорит: «Можно спросить, отчего не казнили Акавию, сына Маhалальэля. Его не казнили потому, что он не давал практических hалахических указаний» (Нахманид и Ибн Эзра тоже не давали практических указаний, и поэтому их тоже нельзя считать старейшинами, перечащими Синедриону, но уж анафеме-то их должны были предать, как поступили с Акавией, сыном Меhалальэля).
После того как мы привели множество примеров того, как мудрецы искажают Писание, заставляя его утрачивать первоначальный смысл сказанного, нас немало удивляют комментаторы Торы, которые пытаются объяснять слова мудрецов там, где установленная ими hалаха не соответствует смыслу сказанного.
Так, в Торе сказано: «И поднесёт из жертвы мирной в огнепалимую жертву Господу тук её, весь курдюк» (Левит, 3:9). В другом стихе говорится: «Никакого тука воловьего, ни овечьего, ни козьего не ешьте» (Левит, 7:23).
Казалось бы, из сказанного следует, что курдючный тук запрещено употреблять в пищу. Однако мудрецы разрешают это, и Шулхан Арух в Йоре Деа, гл. 64, п. 5, постановил так: «Курдючный тук разрешается употреблять в пищу». Гемара в трактате Хулин, 117а, занялась примирением Писания с hалахой: «Рав Мери сказал раву Звиду: Если курдюк называется туком, он должен быть запрещён. Тот ответил ему: Именно поэтому Писание говорит: ‘Никакого тука воловьего, ни овечьего, ни козьего’, – то, что одинаково у вола, у овцы и у козы (а поскольку у вола и у козы курдюка нет, то и овечий курдюк можно есть)». При этом очевидно, что такое объяснение не выдерживает никакой критики в свете сказанного, и мудрецы просто исковеркали смысл текста. По этой самой причине Маймониду и раву Саадии Гаону это толкование показалось неприемлемым, и рав Саадия Гаон приписал к стиху одну маленькую букву «и»: «тук её и весь курдюк». Нахманид, в отличие от него, написал, что существует разница между жиром и туком, и курдюк – это жир, а не тук; слова же Писания: «тук её, весь курдюк» относятся не к курдючному жиру, а к «жиру с внутренней стороны курдюка». И снова Нахманид сообщает нечто принципиально новое, вопреки мудрецам, которые говорят, что курдючный жир называется туком, а есть его можно потому, что в том же стихе говорится о воле и о козе. Согласно Нахманиду выходит, что на курдюк не распространяется закон о злоупотреблении принадлежностью святыни, раз он не является туком. Это также противоречит словам мудрецов: в трактате Хулин, 117а, сказано: «Разве можно предположить, что на курдюк не распространяется закон о злоупотреблении принадлежностью святыни?». В конце Нахманид пишет: «Мне пришлось написать об этом пространно, чтобы заткнуть рот саддукеям – будь они неладны! – ибо в Писании сказано: ‘Отвечай глупому по глупости его’ (Притчи, 26:5), а мудрецы говорят: Погрузись в учение Торы, дабы уметь ответить еретику… а толкование мудрецами стиха: ‘Никакого тука воловьего, ни овечьего’, и т. д. – справедливо и уместно, но, чтобы заткнуть рот нашим противникам, приходится прибегать к изложенным здесь доводам и доказательствам».
Наше же мнение совпадает с тем, что пишет Ибн Эзра в комментарии к Левит, 7:23: «Однажды ко мне пришёл один саддукей и спросил, запрещает ли Тора есть курдюк. Я сказал ему правду – что курдюк называется туком, ибо в Торе написано: ‘тук её, весь курдюк’; но мудрецы разрешили его есть и запретили остальной тук» (видимо, как пишет Маймонид, до них это «донесла традиция»).
Во власти мудрецов в любой момент разрешить то, что запрещено прямым текстом Писания, и поэтому мы не понимаем Нахманида и рава Саадию Гаона, которые упорно стремятся понимать слова Торы буквально, вопреки сказанному мудрецами – а ведь в этом и заключается ересь саддукеев, которые чтут письменную Тору, но не признают устной, хотя в силах последней отменить, убрать или добавить что-либо к прямому смыслу Писания, как сказано в трактате Санhедрин, 33б: «Если кто-то ошибётся в том, с чем согласны даже саддукеи, ему надо вернуться за школьную скамью», – то есть саддукеи принимают законы и правила исключительно в соответствии с буквальным смыслом сказанного в Писании, в отличие от фарисеев. А Нахманид и рав Саадия Гаон объясняют, что выступили против мнения мудрецов, дабы не потворствовать саддукеям – в то время как их-то ответ как раз и соответствует классическому саддукейскому подходу.
Получается, что Нахманид и рав Саадия ведут себя как саддукеи, претендуя при этом на одобрение фарисеев.
Поскольку глава у нас как-никак о жертвоприношениях, мы хотим под конец процитировать Радака и толкование Мидраша, которое учит нас, что все жертвоприношения когда-нибудь будут упразднены, кроме благодарственной жертвы (в главе Тецаве мы уже писали, что все решения, касающиеся жертвоприношений, зависят от мудрецов, при которых будет построен третий Храм).
Радак в комментарии к книге Иеремии, 33:11: «‘Ибо благ Господь, ибо вечна милость его – приносят они жертву благодарности в доме Господнем; ибо возвращу Я пленённых страны этой’, – Приносят благодарственную жертву, а о грехоочистительной жертве или о жертве искупления ничего не сказано, ибо в то время больше не будет ни злодеев, ни грешников, все признают Господа. Мудрецы сказали: Все жертвоприношения будут упразднены, кроме благодарственной жертвы». Аналогично в Мидраше Песикта де-рав Каhана, п. 9: «Рабби Пинхас, рабби Леви и рабби Йоханан сказали от имени рабби Менахема, что в будущие времена все жертвоприношения будут упразднены, а благодарственная жертва не будет упразднена».