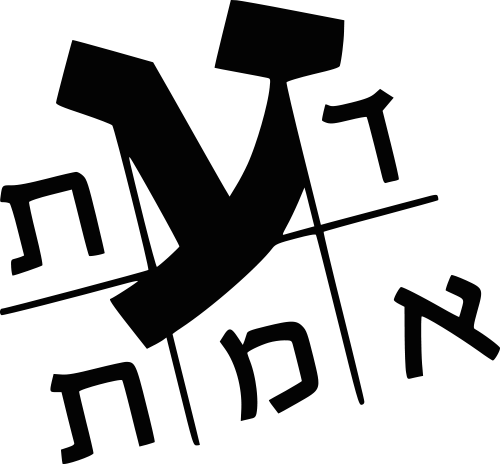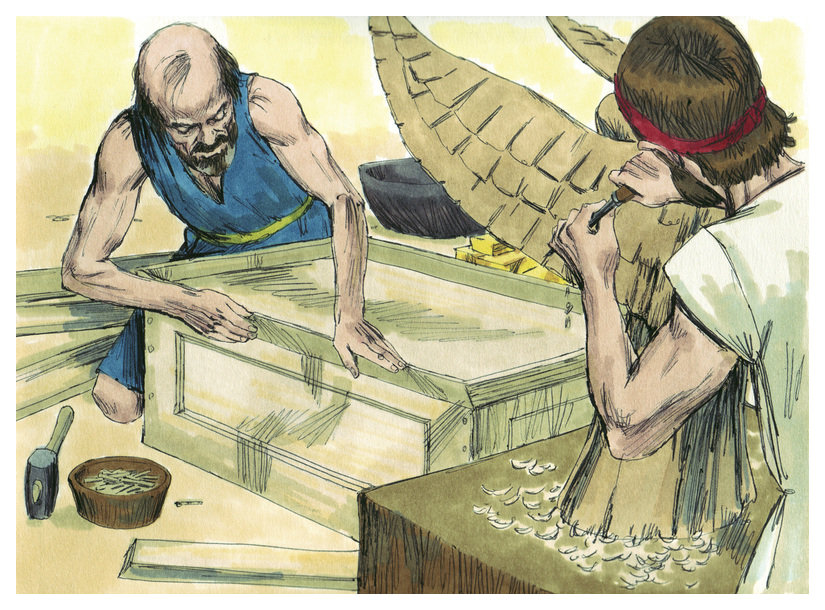
— версия для печати
И собрал Моисей всё общество сынов Израиля, и сказал им: вот слова, которые велел Господь исполнить: Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой да будет освящение полнейшего покоя Господу
Исход 35:1-2
Соблюдение субботы и память о ней являются важнейшим принципом иудаизма – вплоть до того, что в трактате Хулин, 5а, сказано, что тот, кто открыто нарушает субботу, рассматривается как перешедший в язычество и отвергнувший всю Тору целиком. Раши пишет там: «Мудрецы считают нарушение субботы столь же тяжким грехом, как идолопоклонство – ибо идолопоклонник не признаёт Господа, а нарушающий субботу отрицает тем самым Его деяния, как бы утверждая облыжно, будто Всевышний не отдыхал на седьмой день Творения».
Как известно, Тора не указывает, какие именно виды деятельности запрещены в субботу, за исключением пахоты и жатвы (Исход, 34:21), разведения огня (Исход, 35:3) и собирания дров (Числа, 15:32).
Утверждается, что Господь сообщил перечень этих работ мудрецам, как пишет Йереим в гл. 274: «Всего запрещённых Торой (в субботу) работ – сорок без одной. Мудрецы уже сами усмотрели схожие виды работы. Работой называется любое подобное занятие, как сказано: ‘Никакой работой не занимайтесь’. И они пояснили, что именно эти виды работы запрещены Торой; поскольку виды эти не были записаны, мудрецы были уполномочены их определить». Ибн Эзра тоже написал в предисловии к своему комментарию: «Отчего законы, касающиеся проказы – относящиеся к ограниченному отрезку времени и узкому кругу людей, – так подробно и чётко объясняются в Писании, а заповедям, затрагивающим соблюдение праздников, обязательным для всех евреев во все времена, не даётся чёткого определения – мы лишь находим там и тут намёки? Почему Тора так поступает? Это показывает, до чего Моисей полагался на устную Тору, коя суть радость для сердца и целебный нектар для плоти, ибо между устной и письменной Торой нет различия».
В предыдущих главах мы уделили немало внимания тому факту, что всё учение мудрецов основывается на их собственных соображениях – как говорит Йереим, «мудрецы были уполномочены… определить». В этой главе мы расскажем о том, как мудрецы выводили и строили законы работ, запрещённых в субботу. Мы проверим и выясним, укладываются ли их заключения в рамки разумного и приемлемого. А также постараемся ответить на вопрос: последовательно ли их учение?
В трактате Шаббат, 49б, сказано: «Мы учим, что основных видов запрещённых работ всего сорок без одного. Чему они соответствуют? Рабби Ханина бар Хама сказал: Рабби Йоханан, сын рабби Элиэзера, сказал ему: Вот что я слышал от рабби Шимона, сына рабби Йоси, сына Лакунии: они соответствуют сорока без одного разам, когда в Торе упоминается работа, работу или работой. Рав Йосеф спросил: Входит ли в счёт стих: ‘Вошёл в дом делать работу свою’ (Бытие, 39:11)? Абайе предложил ему: Давай принесём Тору и посчитаем! Разве не рассказывал Раба бар бар Хана от имени рабби Йоханана, как мудрецы не сдвинулись с места, пока не принесли Тору и не посчитали?! Тот ответил ему: Я в сомнении, ибо сказано также: ‘А работы было достаточно’ (Исход, 36:7). Я не знаю, входит ли этот стих в счёт – и тогда нужно принять мнение, согласно которому ‘Вошёл в дом делать работу свою’ относится к сношению (и тогда это не связано с работой), или же там имеется в виду действительно работа и это входит в счёт, а ‘Работы было достаточно’ – это не работа, а завершённое изделие. Вопрос так и остался без ответа». Гемара прямым текстом, без обиняков, утверждает, что в общей сложности слова работа, работу и работой встречаются в Торе 40 раз (один из которых не в счёт), и отсюда они вывели число основных видов работ, запрещённых в субботу, и связанных с ними законов, в том числе производные от этих работ, связь которых с упомянутыми тридцатью девятью прототипами прослеживается и по сей день.
Что в таких случаях делает человек любознательный? Правильно! Берёт книгу и считает!
Прежде чем углубиться в дебри учения, мы тоже захотели последовать указанию Абайе и посчитать, сколько раз каждое из трёх слов, названных Гемарой, встречается в Торе.
И вот результаты нашей проверки: «работа» появляется в Торе 24 раза, «работу» – 19 раз, а «работой» – 4. Итого 47 раз!!!
Все эти строения и построения подсчёта видов запрещённых в субботу работ рушатся прямо у нас на глазах. Если уж мудрецы допустили ошибку в основе основ, в числе видов работ, из которых они заныкали аж восемь штук – кто знает, какие ещё ошибки они позволили себе допустить в законах субботы?
Мы не имеем понятия, откуда взялись эти восемь слов, но об этом уже немало было сказано в выпуске №9, посвящённом искажениям, которые претерпел текст Торы на протяжении веков скитаний и бедствий. Даже в самые спокойные времена писцам свойственно ошибаться, как пишет Бейт Йосеф в Хошен Мишпат, гл. 333: «Если кто заплатил писцу, чтобы тот написал для него свиток Торы, и в свитке обнаружились ошибки, так что пришлось нанимать человека, который будет их править – Рашба пишет в ч. 1, п. 1056, что если ошибки были такие, какие свойственно допускать писцам, то писец ничего не должен (платить в качестве компенсации); но если он ошибся так сильно, как писцы обычно не ошибаются, то обязан заплатить за это».
Да только одними ошибками писцов трудно объяснить появление в Торе восьми целых слов. Может, Тора, которая была перед мудрецами, полностью отличалась от нашей? См. комментарий Рабейну Хананэля, а также «исследования» в комментарии раввина Адина Штейнзальца (трактат Шаббат, стр. 206): «Некоторые читают здесь работа и работой, аработу не засчитывают, и тогда счёт сходится (Шаар Эфраим)». Никто не объясняет, за что это слово работу так обошли и обидели, но зато мы видим, что наши учителя вывернут текст наизнанку и поставят его с ног на голову всюду, где только можно, лишь бы не признавать, что мудрецы ошибались.
Рабби Натан (в трактате Шаббат, 70а) выводит число работ другим путём: «Сказано: И собрал Моисей всё общество сынов Израиля, и сказал им: вот те слова, и т. д. Слова, те слова, вот те слова – итого тридцать девять видов работ, о которых Моисею было сказано на горе Синай». Раши объясняет: «Слова – по меньшей мере два, а те слова – добавляет один – то есть три; гематрия (сумма числовых значений букв) слова ‘вот’ (на иврите) – 36, итого – 39». Пеней Йеhошуа пишет об этом толковании рабби Натана (к стр. 49б): «Это просто арифметика с использованием числовых значений букв – и не более». Нет нужды объяснять, что здесь нет столь откровенного и подробного описания, как в приведённой выше гемаре.
Вернёмся теперь к самому учению и покажем, что мудрецы не только допустили грубую ошибку в числе видов запрещённых работ, но и сами перечисленные работы выдумали сами, доставляя комментаторам немало хлопот. Тосафот, например, спрашивают: «В таком случае, как можно определить, что является основным видом работы, а что – производной? Нельзя же предположить, что мудрецы сами отобрали наиболее важные из работ и назвали их основными?!» Тосафот так и не нашли ответа на этот важный вопрос.
Чтобы осознать масштабы, которые приняла вся эта неразбериха, достаточно увидеть, что мудрецы называют в качестве трёх разных видов работ «перебирание, веяние и просеивание». Гемара в трактате Шаббат, 73б, спрашивает: «Но ведь перебирание, веяние и просеивание – это одно и то же»? – и отвечает: «Все работы, которые выполнялись в Скинии, считаются отдельными видами, даже те, которые похожи друг на друга. – Если так, то и перемалывание (надо было включить в счёт, хотя оно и похоже на молотьбу, так как и эту работу выполняли в Скинии)? – Абайе сказал: Бедные люди едят хлеб, не перемалывая». Тосафот спросили на это: «Но и о просеивании можно сказать то же самое – бедные люди едят хлеб, не просеивая!», – и ответили, что большинство бедняков не ест хлеб, не просеивая.
От работ, осуществлявшихся в Скинии, мы перешли к вопросам хорошего тона за столом у бедняков. В наше время, в вопросах выпечки хлеба бедные ничем не отличаются от богатых. Так же было и в пустыне, где все ели одну и ту же манну – а если так, какое вообще значение могут иметь обычаи бедняков времён Абайе?
Мало того: автор этой мишны упомянул такие два вида работ, как «засолка и дубление». Гемара спрашивает (75а): «Но ведь засолка и дубление – это одно и то же? – Поэтому и рабби Йоханан, и Реш Лакиш считают, что одна из этих работ не входит в счёт, а вместо неё входит начертание». Маймонид пишет об этом в комментарии к Мишне: «Считается, что засолка и дубление не являются двумя разными работами, ибо засолка кож – одна из составных частей дубления, упомянутая здесь, чтобы научить нас, что засолка также считается дублением. Счёт же тридцати девяти работ завершается начертанием, но автор мишны ошибся, вспомнив об этой работе посреди написания и включив её». Сплошная неразбериха кругом, конца и края ей не видно.
В трактате Шаббат, 70а, можно найти прекрасный пример того, как мудрецы выдирают с мясом смысл сказанного в Писании: «Откуда мы знаем о том, что каждая работа – сама по себе? (Т. е. что за каждую работу нужно приносить отдельную жертву.) Шмуэль сказал: Писание говорит: ‘Кто осквернит её, смертью да умрёт’ (Исход, 31:14). Тора говорит о многих смертях за одно нарушение. Может быть, речь идёт о преднамеренном нарушении? Но о нём уже было сказано: ‘Всякий, производящий работу, предан будет смерти’ (Исход, 35:2). Если это не относится к преднамеренному нарушению, значит речь идёт о непреднамеренном. А что такое ‘смертью да умрёт’? – Деньгами (т. е. в материальном эквиваленте – потратит деньги на принесение грехоочистительных жертв)». Мудрецы толкуют Тору как Бог на душу положит, а от того, что там на самом деле сказано, им ни жарко, ни холодно. Они взяли стих Писания и поставили с ног на голову: преднамеренное нарушение стало непреднамеренным, а «смертью умрёт» превратилось в денежный штраф.
Или ещё один пример: «Не зажигайте огня во всех жилищах ваших» (Исход, 35:3). Мудрецы спросили, зачем Писание упоминает отдельно запрет разжигать огонь, если это уже входит в счёт тридцати девяти запрещённых в субботу работ. Это привело к спору, описанному в трактате Шаббат, 70а: «В барайте сказано: Зажигание вынесено отдельно, чтобы сообщить нам (что это нарушение, в отличие от прочих, не карается преждевременной смертью или побиением камнями) – так говорит рабби Йоси; а рабби Натан сказал: оно выделено, чтобы сообщить нам о разделении (т. е. что за каждую работу нужно приносить отдельную жертву)». Это один из принципов толкования Торы, как пишет Раши: «Это принцип в Торе: всё, что входит в общую категорию и при этом выделяется отдельно, чтобы чему-то нас научить, сообщает не о себе, а обо всей категории, к которой принадлежит».
Тут бы спросить – но ведь в стихе: «Во время пахоты и жатвы отдыхай» (Исход, 34:21) частное точно так же выделяется из общего? Раши, однако, пишет, что этот стих касается правил седьмого года – шемиты, в соответствии с барайтой, приведённой в трактате Рош hа-Шана, 9а: «В барайте сказано: ‘Во время пахоты и жатвы отдыхай’, – Рабби Акива сказал… пахоты – в канун седьмого года, переходящий в седьмой год». Вот как это делается – берётся стих, говорящий о святости субботы, и вырывается из контекста, после чего его можно спокойно прилепить к седьмому году.
Мудрецы не только насилуют Святое Писание, они ещё и на редкость непоследовательны. Как мы только что видели, зажигание огня относилось к общей категории и было выделено, чтобы сообщить нам нечто обо всей этой категории. Зато в других аналогичных случаях мудрецы делают прямо противоположный вывод: если за общим упомянуто частное, только это частное и входит в общее, как говорится в трактате Менахот, 55б, где гемара спрашивает, после того как представила принцип частного, выделенного из общего: «Почему, например, не сказать, что это частное, упомянутое вслед за общим – и в таком случае, только это частное и должно входить в общее»? Видимо, два противоположных принципа могут мирно сосуществовать в мире мудрецов. Вся эта неразбериха и непоследовательность в учении мудрецов заставили р. Шмуэля ди Медина написать в «Ответах» (Орах Хаим, гл. 34): «Нам не следует задавать вопросы о принципах учения Торы; мы же видим, как Тора иногда говорит нечто несвязанное с контекстом, а мудрецы учат, что если это не подходит по смыслу к одному вопросу, нужно отнести это к другому. Мы же не спрашиваем, почему Тора не написала этого там, где это к месту… есть ещё много подобных примеров, которые можно было бы привести, однако очевидно, что о принципах учения Торы не следует задавать вопросы». Итак, о принципах учения Торы не следует задавать вопросы, о непоследовательности и нелогичных объяснениях спрашивать не положено. Нечего удивляться искажениям смысла написанного: всюду, где сказанное не соответствует тому, чему надо, вырви его из контекста и вклей ещё куда-нибудь – неважно, куда. Тора превратилась для мудрецов в податливый материал, в мягкую глину в руках гончара, которую они по своему хотению месят и лепят, мнут и растягивают, отрывают куски и лепят где ни попадя.
В заключение мы процитируем верховного раввина Иерусалима, покойного р. Цви Песаха Франка, который написал в своей книге Ар Цви, Орах Хаим, ч. 1, гл. 43: «Значит, наверняка Моисею на горе Синай не было передано каждое учение общего и частного в отдельности – всюду, где к нему прибегают; также и из вопроса Гемары: ‘Почему, например, не сказать, что это частное, упомянутое вслед за общим’, – мы видим, что этим принципом можно пользоваться в каждом отдельно взятом месте, не имея на то специального закона, полученного по традиции». Итак, принцип общего и частного вовсе не обязательно был сообщён Моисею на горе Синай, его можно использовать или не использовать, не имея специальной традиции, и, как мы ещё покажем, то же верно и в отношении других принципов толкования Торы – все они были плодом творчества мудрецов, все можно использовать или не использовать, не имея специальной традиции, и мудрецы так и поступали на протяжении веков, руководствуясь здравым смыслом, личными мотивами и установившимися обычаями, о чём мы писали не раз. Ищущие познания да обрящут.