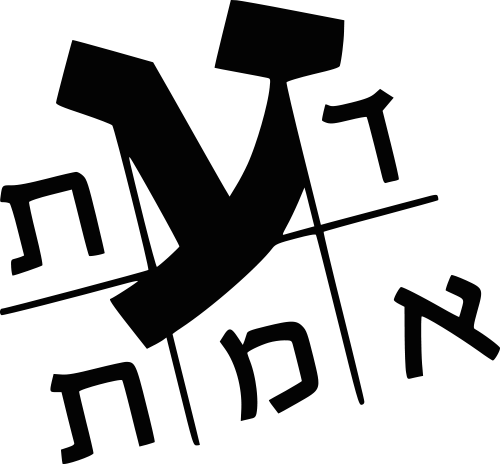— версия для печати
Говори сынам Израилевым следующее: если женщина зачнёт и родит мальчика, то она нечиста будет семь дней… По исполнении же дней очищения её за сына или за дочь пусть принесёт она ягнёнка однолетнего во всесожжение и молодого голубя или горлицу в грехоочистительную жертву
Левит, 12:2-6
Наш раздел посвящён, главным образом, вопросу о цараат (русский читатель привык, как правило, к тому, что это понятие интерпретируется как «проказа»; тем не менее, из самой Торы и её комментариев это по меньшей мере неочевидно – прим. пер.). И поскольку неясно, что это явление собой представляет (к примеру, идёт ли речь о заболевании или о ритуальной нечистоте), сам термин требует объяснений, как намекает Рашбам (к 13:2): «Всюду, где говорится о язвах на теле, язвах на одежде, на домах, о том, как они выглядят и какой срок требуется для очищения; о белых, чёрных и жёлтых волосах, – буквальный смысл сказанного не имеет к нам никакого отношения».
Уж так водится в Торе: пространно рассуждать о вещах незначительных, предельно сокращая самую суть. Мы уже неоднократно писали об этом. Так, Ибн Эзра говорит в предисловии к своему комментарию к Торе: «Отчего же законы, касающиеся цараат – заповеди, относящейся только к отдельным лицам и лишь изредка – освещены в Торе столь подробно, в то время как о законах праздников, исполнять которые регулярно положено всем евреям, в Торе прямо ничего не сказано, и мы вынуждены довольствоваться поиском туманных намёков и недомолвок там и тут»? Действительно, очень странно.
В этой главе мы хотим задержать внимание на законе о роженице. Мы уже писали о тех научных ошибках, которые мудрецы допускали, обсуждая эти вопросы (о невежестве мудрецов в том, что касается женской анатомии и месячных периодов – см. выпуск №7).
В трактате Нида, 30б, Гемара приводит мнение р. Ишмаэля, который объясняет, почему период очищения женщины, родившей мальчика, длится сорок дней после родов, а если она родила девочку, то восемьдесят дней. По его словам, это связано с тем, что формирование плода мужского пола (вплоть до того момента, как в чреве матери появятся его органы, ногти и волосы) требует сорока дней, в то время как на формирование плода женского пола времени нужно вдвое больше (пока в чреве матери не появятся её органы, ногти и волосы) – то есть восемьдесят дней! Нет нужды объяснять, что слова р. Ишмаэля – сущий бред, так как в сроках формирования и развития плода пол не играет практически никакой роли.
Куда большего внимания заслуживает дискуссия между мудрецами (считающими, что на формирование плода любого пола требуется сорок дней) и р. Ишмаэлем: «Мудрецы сказали р. Ишмаэлю: У Клеопатры, царицы Александрии, было несколько рабынь, ожидавших смертной казни (Как осуждённые, они представляли хороший материал для опытов. –Раши). Проверка показала, что и тому, и другому плоду (и мужского, и женского пола) для развития требуется сорок один день. (Их подвергли жестокому медицинскому эксперименту: оплодотворив их, через определённый срок плоды – разного пола – были вырезаны из чрева каждой. Это позволило установить, что развитие плода завершается через сорок дней, вне зависимости от пола.) Он (р. Ишмаэль) ответил им: Я привёл вам доказательство из Торы, а вы приводите мне в доказательство обратного историю каких-то идиотов?!… И что же это вообще доказывает – ведь плод женского пола мог быть зачат на сорок дней раньше, чем плод мужского! – Мудрецы отвечали на это, что рабынь напоили зельем, вызывающим выкидыш, перед тем, как они зачали. – Рабби Ишмаэль же сказал: На некоторых подобные зелья не оказывают должного воздействия». Далее приводится ещё одна история о Клеопатре, царице Александрии (хотя выводы из неё делаются прямо противоположные).
Эта гемара позволяет нам понять два очень важных момента.
Во-первых, доказательство, основанное на стихах священного текста, обладает большей силой, нежели факты. Недаром рабби Ишмаэль говорит: «Я привёл вам доказательство из Торы, а вы приводите мне в доказательство обратного историю каких-то идиотов?!». Он практически заявляет прямым текстом: «Я знаю то, что сказано в Писании, а до фактов мне дела нет»! (Позиция рабби Ишмаэля вообще очень шаткая, учитывая несостоятельность его «доказательства» из Торы. На каком основании он делает свой вывод? Лишь потому, что сказано: «Если же она девочку родит», что Писание упомянуло особо рождение девочки? И тем не менее он упорно предпочитает оспаривать результаты научного опыта, опираясь на такой сомнительный довод, как то, что рабыня не только зачала за сорок дней до начала эксперимента, но ещё и зелье, которым её напоили, не вызвало ожидаемого выкидыша).
И по сей день можно встретить ханжествующих глупцов, которые всегда отдадут предпочтение словам своего раввина или вождя, даже если это полная чушь, тому, что они понимают, осознают и видят собственными глазами. Это о них в Писании сказано: «Даже если будешь толочь глупца в ступе между крупою пестом, не отстанет от него глупость его» (Притчи, 27:22).
Во-вторых, мы видим из этой гемары, что представление мудрецов о реальности основывалось не на исследовании этой реальности, а на изучении стихов Писания. Иногда они могли привести, в качестве подкрепляющего их позицию довода, пример из историй, почерпнутых у других народов; порой же они выступали против утверждений неевреев, даже если имели на то очень мало оснований, лишь бы оказаться правыми. Сегодня, когда научные исследования стали гораздо точнее и обеспечивать чистоту эксперимента гораздо легче, рабби Ишмаэль уже не мог бы отрицать факты, как он поступил во время оно.
Другой вопрос касается женщины, выносившей плод в своём чреве все девять месяцев и в муках рождающей детей (хотя на неё и не распространяется заповедь «плодитесь и размножайтесь», в отличие от мужчины, она оказывает ему посильную помощь в выполнении этой важной заповеди); почему она должна приносить жертву? И даже не одну, а две: одну жертву всесожжения, другую – грехоочистительную. В чём заключается её грех?
Этот вопрос задали рабби Шимону бар Йохаю его ученики. В трактате Нида, 31б, сказано: «Почему Тора обязывает роженицу принести жертву? – Он ответил им: Когда женщина лежит в предродовых муках, она кричит и клянётся, что больше никогда не совокупится с мужем. Поэтому Тора обязала её принести жертву». Это объяснение совершенно непонятно, и рабби Йосеф незамедлительно его опровергает: «В таком случае, ей следовало бы принести жертвоприношение за ложную клятву, а не жертву всесожжения и грехоочистительную жертву».
Так или иначе, мы видим, что мудрецы вносят в смысл Торы собственные объяснения, вовсе не признаваясь при этом, что вводят новый закон или постановление. Рабби Шимон определяет смысл сказанного и даже устанавливает hалаху так, как ему нравится; во Второзаконии, 24:17, сказано: «Не бери в залог одежды вдовы» (Не бери у вдовы залога. – Арамейский перевод Онкелоса). Казалось бы, речь идёт о любой вдове вообще. Однако рабби Шимон говорит, в трактате Бава Меция, 115а: «У богатой вдовы можно брать залог, а у бедной вдовы нельзя брать залог, ибо залог далее надо вернуть ей, тем самым пороча её репутацию в кругу друзей» (которые заподозрят её в прелюбодеянии).
С другой стороны, мудрецы считали, что все заповеди Торы суть постановления, не обоснованные ничем, кроме воли Божьей, как мы видим в трактате Берахот, 33б2: «Того, кто скажет: ‘И на птичье гнездо распространяется Твоё, Господи, милосердие!’… надо заставить замолчать… ибо он полагает пути Господни милосердием – а те суть не что иное как постановления». Раши объясняет этот отрывок так: «Господь запретил (брать птенцов из гнезда на глазах у матери) не из милосердия, но дабы наложить на евреев ярмо Своих законов и постановлений, чтобы они знали, что они рабы Его, исполняющие Его указания».
Даже к тем заповедям, которые совпадают с тем, что нам диктуют личные соображения морали, следует относиться как к постановлениям, как сказано в трактате Санhедрин, 76б: «О том, кто возвращает утерянное нееврею, в Писании сказано: ‘И пропадёт таким образом сытый с голодным. Не благоволит Господь простить ему’ (Второзаконие, 29:18)». Раши объясняет: «Тот, кто вернёт пропажу нееврею, валя в одну кучу еврея и нееврея, показывает тем самым, что Божественная заповедь не имеет в его глазах никакой ценности, поскольку он возвращает утерянное даже в том случае, к которому оная заповедь не имеет касательства».
Следовательно, заповеди не преследуют задачи объединить и морально очистить людей – они просто являются Божественными распоряжениями. Это идёт вразрез с мнением Нахманида, который написал в комментариях к Второзаконию, 22:6: «Сказанное о том, кто полагает пути Господни милосердием, в то время как те суть не что иное как постановления – означает, что Он не распространил своё милосердие на птичье гнездо и на запрет забирать птицу вместе с птенцами или резать животное и его отпрыска в один день, ибо Его милосердие не распространяется на животную душу… однако этот запрет должен научить нас милосердию, дабы мы не ожесточились… Итак, сами заповеди есть постановления, которые указывают нам путь в жизни и учат нас добру».
Интересно, как Нахманид объяснил бы, к примеру, запрет возвращать нееврею утерянное? Если Тора стремится научить нас добру, достойно было бы вернуть пропажу владельцу в любрм случае; ведь честность и порядочность – прекрасные качества, и разумно было бы предположить, что даже тот, кто вернёт пропажу нееврею, становится от этого лучше. Разве что заповеди – это постановления без всякого смысла и обоснования, которые не учат нас вообще ничему.
Из всего вышеизложенного вытекает, что у мудрецов не было чёткой линии в объяснении смысла заповедей: доступны ли те человеческому пониманию или даны как постановления свыше, не имеющие никакого смысла помимо воли Господней. Даже Маймонид противоречит сам себе, обсуждая эту тему. В «Наставнике растерянных», ч. 3, гл. 48 он пишет: «Упомянутые два мнения таковы: согласно первому, у Торы нет иного смысла, помимо Господней воли. Мы же более склоняемся к тому, чтобы разделить второе мнение (согласно которому у каждой заповеди Торы есть свой смысл)». И в то же время в Законах молитвы, гл. 9, з. 7, он написал: «Ежели кто говорит в молитве, взывая к Господу, чтобы Он смилостивился над нами, как смилостивился над птичьим гнездом, запретив забирать птицу вместе с птенцами или резать животное и его отпрыска в один день, то эту молитву надо прервать и велеть ему замолчать, потому что эти заповеди – постановления Писания, а милосердия в них нет».
Этот пример отражает, по существу, поведение благочестивых евреев нашего времени. Когда можно объяснить смысл заповеди так, чтобы он был понятен каждому, они сообщают о нём своим ученикам, воспевая её глубину и разумность. Когда же удобного объяснения под рукой не оказывается, они со вздохом говорят, что это постановление, данное Писанием.
Нет бы им собраться с духом и заявить, в конце концов, ясно и понятно: должны ли заповеди делать людей лучше, исправлять их качества? Если да, то им придётся объяснить, почему не положено возвращать нееврею то, что тот потерял, отчего ему дают деньги в рост, и ещё разные вещи, непонятные человеку порядочному. А если заповеди – это постановления Всеблагого без всякого смысла и объяснения, так нечего пытаться объяснить и отдельную заповедь: даже «Не убий» и «Не прелюбодействуй» – такие же постановления, не имеющие никакого касательства к человеческой порядочности.